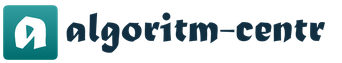Гоголь Н. Старосветские помещики. Книга: Старосветские помещики Гоголь старосветские помещики читать онлайн
Title: Купить книгу "Старосветские помещики":
feed_id: 5296
pattern_id: 2266
book_author: Гоголь Николай
book_name: Старосветские помещики
Купить книгу "Старосветские помещики" Гоголь Николай
Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своею пестротою и совершенною противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень и лишенное щекатурки крыльцо не выказывает своих красных кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владетелей так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галереею из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущею вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом; развесистый клен, в тени которого разостлан для отдыха ковер; перед домом просторный двор с низенькою свежею травкою, с протоптанною дорожкою от амбара до кухни и от кухни до барских покоев; длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами; частокол, обвешанный связками сушеных груш и яблок и проветривающимися коврами; воз с дынями, стоящий возле амбара; отпряженный вол, лениво лежащий возле него, – все это для меня имеет неизъяснимую прелесть, может быть, оттого, что я уже не вижу их и что нам мило все то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние; лошади весело подкатывали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом свой; самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков, старички, старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе среди модных фраков, и тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое. На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя, по крайней мере, на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную буколическую жизнь.
Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы! теперь уже нет, но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне опустелое жилище и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик, – и ничего более. Грустно! мне заранее грустно! Но обратимся к рассказу.
Афанасий Иванович Товстогуб и жена его Пульхерия Ивановна Товстогубиха, по выражению окружных мужиков, были те старики, о которых я начал рассказывать. Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их. Афанасию Ивановичу было шестьдесят лет, Пульхерии Ивановне пятьдесят пять. Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, покрытом камлотом, сидел согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рассказывал или просто слушал. Пульхерия Ивановна была несколько сурьезна, почти никогда не смеялась; но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторною для ее доброго лица. Легкие морщины на их лицах были расположены с такою приятностию, что художник, верно бы, украл их. По ним можно было, казалось, читать всю жизнь их, ясную, спокойную жизнь, которую вели старые национальные, простосердечные и вместе богатые фамилии, всегда составляющие противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю копейку с своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают наконец капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на о , слог въ . Нет, они не были похожи на эти презренные и жалкие творения, так же как и все малороссийские старинные и коренные фамилии.
Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу ты , но всегда вы ; вы, Афанасий Иванович; вы, Пульхерия Ивановна. «Это вы продавили стул, Афанасий Иванович?» – «Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна: это я». Они никогда не имели детей, и оттого вся привязанность их сосредоточивалась на них же самих. Когда-то, в молодости, Афанасий Иванович служил в компанейцах, был после секунд-майором, но это уже было очень давно, уже прошло, уже сам Афанасий Иванович почти никогда не вспоминал об этом. Афанасий Иванович женился тридцати лет, когда был молодцом и носил шитый камзол; он даже увез довольно ловко Пульхерию Ивановну, которую родственники не хотели отдать за него; но и об этом уже он очень мало помнил, по крайней мере, никогда не говорил.
Все эти давние, необыкновенные происшествия заменились спокойною и уединенною жизнию, теми дремлющими и вместе какими-то гармоническими грезами, которые ощущаете вы, сидя на деревенском балконе, обращенном в сад, когда прекрасный дождь роскошно шумит, хлопая по древесным листьям, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тем радуга крадется из-за деревьев и в виде полуразрушенного свода светит матовыми семью цветами на небе. Или когда укачивает вас коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепел гремит и душистая трава вместе с хлебными колосьями и полевыми цветами лезет в дверцы коляски, приятно ударяя вас по рукам и лицу.
Он всегда слушал с приятною улыбкою гостей, приезжавших к нему, иногда и сам говорил, но больше расспрашивал. Он не принадлежал к числу тех стариков, которые надоедают вечными похвалами старому времени или порицаниями нового. Он, напротив, расспрашивая вас, показывал большое любопытство и участие к обстоятельствам вашей собственной жизни, удачам и неудачам, которыми обыкновенно интересуются все добрые старики, хотя оно несколько похоже на любопытство ребенка, который в то время, когда говорит с вами, рассматривает печатку ваших часов. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротою.
Комнаты домика, в котором жили наши старички, были маленькие, низенькие, какие обыкновенно встречаются у старосветских людей. В каждой комнате была огромная печь, занимавшая почти третью часть ее. Комнатки эти были ужасно теплы, потому что и Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна очень любили теплоту. Топки их были все проведены в сени, всегда почти до самого потолка наполненные соломою, которую обыкновенно употребляют в Малороссии вместо дров. Треск этой горящей соломы и освещение делают сени чрезвычайно приятными в зимний вечер, когда пылкая молодежь, прозябнувши от преследования за какой-нибудь смуглянкой, вбегает в них, похлопывая в ладоши. Стены комнат убраны были несколькими картинами и картинками в старинных узеньких рамах. Я уверен, что сами хозяева давно позабыли их содержание, и если бы некоторые из них были унесены, то они бы, верно, этого не заметили. Два портрета было больших, писанных масляными красками. Один представлял какого-то архиерея, другой Петра III. Из узеньких рам глядела герцогиня Лавальер, запачканная мухами. Вокруг окон и над дверями находилось множество небольших картинок, которые как-то привыкаешь почитать за пятна на стене и потому их вовсе не рассматриваешь. Пол почти во всех комнатах был глиняный, но так чисто вымазанный и содержавшийся с такою опрятностию, с какою, верно, не содержится ни один паркет в богатом доме, лениво подметаемый невыспавшимся господином в ливрее.
Комната Пульхерии Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и сундучочками. Множество узелков и мешков с семенами, цветочными, огородными, арбузными, висело по стенам. Множество клубков с разноцветною шерстью, лоскутков старинных платьев, шитых за полстолетие, были укладены по углам в сундучках и между сундучками. Пульхерия Ивановна была большая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потом употребится.
Но самое замечательное в доме – были поющие двери. Как только наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего они пели: перержавевшие ли петли были тому виною или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет, – но замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный голос: дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким дискантом; дверь в столовую хрипела басом; но та, которая была в сенях, издавала какой-то странный дребезжащий и вместе стонущий звук, так что, вслушиваясь в него, очень ясно наконец слышалось: «батюшки, я зябну!» Я знаю, что многим очень не нравится этот звук; но я его очень люблю, и если мне случится иногда здесь услышать скрып дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревнею, низенькой комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике, ужином, уже стоящим на столе, майскою темною ночью, глядящею из сада, сквозь растворенное окно, на стол, уставленный приборами, соловьем, обдающим сад, дом и дальнюю реку своими раскатами, страхом и шорохом ветвей… и Боже, какая длинная навевается мне тогда вереница воспоминаний!
Стулья в комнате были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличается старина; они были все с высокими выточенными спинками, в натуральном виде, без всякого лака и краски; они не были даже обиты материею и были несколько похожи на те стулья, на которые и доныне садятся архиереи. Трехугольные столики по углам, четырехугольные перед диваном и зеркалом в тоненьких золотых рамах, выточенных листьями, которых мухи усеяли черными точками, ковер перед диваном с птицами, похожими на цветы, и цветами, похожими на птиц, – вот все почти убранство невзыскательного домика, где жили мои старики.
Девичья была набита молодыми и немолодыми девушками в полосатых исподницах, которым иногда Пульхерия Ивановна давала шить какие-нибудь безделушки и заставляла чистить ягоды, но которые большею частию бегали на кухню и спали. Пульхерия Ивановна почитала необходимостию держать их в доме и строго смотрела за их нравственностью. Но, к чрезвычайному ее удивлению, не проходило нескольких месяцев, чтобы у которой-нибудь из ее девушек стан не делался гораздо полнее обыкновенного; тем более это казалось удивительно, что в доме почти никого не было из холостых людей, выключая разве только комнатного мальчика, который ходил в сером полуфраке, с босыми ногами, и если не ел, то уж верно спал. Пульхерия Ивановна обыкновенно бранила виновную и наказывала строго, чтобы вперед этого не было. На стеклах окон звенело страшное множество мух, которых всех покрывал толстый бас шмеля, иногда сопровождаемый пронзительными визжаниями ос; но как только подавали свечи, вся эта ватага отправлялась на ночлег и покрывала черною тучею весь потолок.
Афанасий Иванович очень мало занимался хозяйством, хотя, впрочем, ездил иногда к косарям и жнецам и смотрел довольно пристально на их работу; все бремя правления лежало на Пульхерии Ивановне. Хозяйство Пульхерии Ивановны состояло в беспрестанном отпирании и запирании кладовой, в солении, сушении, варении бесчисленного множества фруктов и растений. Ее дом был совершенно похож на химическую лабораторию. Под яблонею вечно был разложен огонь, и никогда почти не снимался с железного треножника котел или медный таз с вареньем, желе, пастилою, деланными на меду, на сахаре и не помню еще на чем. Под другим деревом кучер вечно перегонял в медном лембике водку на персиковые листья, на черемуховый цвет, на золототысячник, на вишневые косточки, и к концу этого процесса совершенно не был в состоянии поворотить языком, болтал такой вздор, что Пульхерия Ивановна ничего не могла понять, и отправлялся на кухню спать. Всей этой дряни наваривалось, насоливалось, насушивалось такое множество, что, вероятно, она потопила бы наконец весь двор, потому что Пульхерия Ивановна всегда сверх расчисленного на потребление любила приготовлять еще на запас, если бы большая половина этого не съедалась дворовыми девками, которые, забираясь в кладовую, так ужасно там объедались, что целый день стонали и жаловались на животы свои.
В хлебопашество и прочие хозяйственные статьи вне двора Пульхерия Ивановна мало имела возможности входить. Приказчик, соединившись с войтом, обкрадывали немилосердным образом. Они завели обыкновение входить в господские леса, как в свои собственные, наделывали множество саней и продавали их на ближней ярмарке; кроме того, все толстые дубы они продавали на сруб для мельниц соседним козакам. Один только раз Пульхерия Ивановна пожелала обревизировать свои леса. Для этого были запряжены дрожки с огромными кожаными фартуками, от которых, как только кучер встряхивал вожжами и лошади, служившие еще в милиции, трогались с своего места, воздух наполнялся странными звуками, так что вдруг были слышны и флейта, и бубны, и барабан; каждый гвоздик и железная скобка звенели до того, что возле самых мельниц было слышно, как пани выезжала со двора, хотя это расстояние было не менее двух верст. Пульхерия Ивановна не могла не заметить страшного опустошения в лесу и потери тех дубов, которые она еще в детстве знавала столетними.
– Отчего это у тебя, Ничипор, – сказала она, обратясь к своему приказчику, тут же находившемуся, – дубки сделались так редкими? Гляди, чтобы у тебя волосы на голове не стали редки.
– Отчего редки? – говаривал обыкновенно приказчик, – пропали! Так-таки совсем пропали: и громом побило, и черви проточили, – пропали, пани, пропали.
Пульхерия Ивановна совершенно удовлетворялась этим ответом и, приехавши домой, давала повеление удвоить только стражу в саду около шпанских вишен и больших зимних дуль.
Эти достойные правители, приказчик и войт, нашли вовсе излишним привозить всю муку в барские амбары, а что с бар будет довольно и половины; наконец, и эту половину привозили они заплесневшую или подмоченную, которая была обракована на ярмарке. Но сколько ни обкрадывали приказчик и войт, как ни ужасно жрали все в дворе, начиная от ключницы до свиней, которые истребляли страшное множество слив и яблок и часто собственными мордами толкали дерево, чтобы стряхнуть с него целый дождь фруктов, сколько ни клевали их воробьи и вороны, сколько вся дворня ни носила гостинцев своим кумовьям в другие деревни и даже таскала из амбаров старые полотна и пряжу, что все обращалось ко всемирному источнику, то есть к шинку, сколько ни крали гости, флегматические кучера и лакеи, – но благословенная земля производила всего в таком множестве, Афанасию Ивановичу и Пульхерии Ивановне так мало было нужно, что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве.
Оба старичка, по старинному обычаю старосветских помещиков, очень любили покушать. Как только занималась заря (они всегда вставали рано) и как только двери заводили свой разноголосый концерт, они уже сидели за столиком и пили кофе. Напившись кофею, Афанасий Иванович выходил в сени и, стряхнувши платком, говорил: «Киш, киш! пошли, гуси, с крыльца!» На дворе ему обыкновенно попадался приказчик. Он, по обыкновению, вступал с ним в разговор, расспрашивал о работах с величайшею подробностью и такие сообщал ему замечания и приказания, которые удивили бы всякого необыкновенным познанием хозяйства, и какой-нибудь новичок не осмелился бы и подумать, чтобы можно было украсть у такого зоркого хозяина. Но приказчик его был обстрелянная птица: он знал, как нужно отвечать, а еще более, как нужно хозяйничать.
После этого Афанасий Иванович возвращался в покои и говорил, приблизившись к Пульхерии Ивановне:
– А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?
– Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? разве коржиков с салом, или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых?
– Пожалуй, хоть и рыжиков или пирожков, – отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками.
За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в двенадцать часов. Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду.
– Мне кажется, как будто эта каша, – говаривал обыкновенно Афанасий Иванович, – немного пригорела; вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?
– Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелою, или вот возьмите этого соусу с грибками и подлейте к ней.
– Пожалуй, – говорил Афанасий Иванович, подставляя свою тарелку, – попробуем, как оно будет.
После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть один часик, после чего Пульхерия Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила:
– Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз.
– Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный в средине, – говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть, – бывает, что и красный, да нехороший.
Но арбуз немедленно исчезал. После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхерией Ивановной. Пришедши домой, Пульхерия Ивановна отправлялась по своим делам, а он садился под навесом, обращенным к двору, и глядел, как кладовая беспрестанно показывала и закрывала свою внутренность и девки, толкая одна другую, то вносили, то выносили кучу всякого дрязгу в деревянных ящиках, решетах, ночевках и в прочих фруктохранилищах. Немного погодя он посылал за Пульхерией Ивановной или сам отправлялся к ней и говорил:
– Чего бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?
– Чего же бы такого? – говорила Пульхерия Ивановна, – разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых приказала я нарочно для вас оставить?
– И то добре, – отвечал Афанасий Иванович.
– Или, может быть, вы съели бы киселику?
– И то хорошо, – отвечал Афанасий Иванович. После чего все это немедленно было приносимо и, как водится, съедаемо.
Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого садились ужинать. После ужина тотчас отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась в этом деятельном и вместе спокойном уголке. Комната, в которой спали Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, была так жарка, что редкий был бы в состоянии остаться в ней несколько часов. Но Афанасий Иванович еще сверх того, чтобы было теплее, спал на лежанке, хотя сильный жар часто заставлял его несколько раз вставать среди ночи и прохаживаться по комнате. Иногда Афанасий Иванович, ходя по комнате, стонал. Тогда Пульхерия Ивановна спрашивала:
– Чего вы стонете, Афанасий Иванович?
– Бог его знает, Пульхерия Ивановна, так, как будто немного живот болит, – говорил Афанасий Иванович.
– А не лучше ли вам чего-нибудь съесть, Афанасий Иванович?
– Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна! впрочем, чего ж бы такого съесть?
– Кислого молочка или жиденького узвару с сушеными грушами.
– Пожалуй, разве так только, попробовать, – говорил Афанасий Иванович.
Сонная девка отправлялась рыться по шкапам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку; после чего он обыкновенно говорил:
– Теперь так как будто сделалось легче.
Иногда, если было ясное время и в комнатах довольно тепло натоплено, Афанасий Иванович, развеселившись, любил пошутить над Пульхериею Ивановною и поговорить о чем-нибудь постороннем.
– А что, Пульхерия Ивановна, – говорил он, – если бы вдруг загорелся дом наш, куда бы мы делись?
– Вот это боже сохрани! – говорила Пульхерия Ивановна, крестясь.
– Ну, да положим, что дом наш сгорел, куда бы мы перешли тогда?
– Бог знает что вы говорите, Афанасий Иванович! как можно, чтобы дом мог сгореть: Бог этого не попустит.
– Ну, а если бы сгорел?
– Ну, тогда бы мы перешли в кухню. Вы бы заняли на время ту комнатку, которую занимает ключница.
– А если бы и кухня сгорела?
– Вот еще! бог сохранит от такого попущения, чтобы вдруг и дом и кухня сгорели! Ну, тогда в кладовую, покамест выстроился бы новый дом.
– А если бы и кладовая сгорела?
– Бог знает что вы говорите! я и слушать вас не хочу! Грех это говорить, и Бог наказывает за такие речи.
Но Афанасий Иванович, довольный тем, что подшутил над Пульхериею Ивановною, улыбался, сидя на своем стуле.
Но интереснее всего казались для меня старички в то время, когда бывали у них гости. Тогда все в их доме принимало другой вид. Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Все, что у них ни было лучшего, все это выносилось. Они наперерыв старались угостить вас всем, что только производило их хозяйство. Но более всего приятно мне было то, что во всей их услужливости не было никакой приторности. Это радушие и готовность так кротко выражались на их лицах, так шли к ним, что поневоле соглашался на их просьбы. Они были следствие чистой, ясной простоты их добрых, бесхитростных душ. Это радушие вовсе не то, с каким угощает вас чиновник казенной палаты, вышедший в люди вашими стараниями, называющий вас благодетелем и ползающий у ног ваших. Гость никаким образом не был отпускаем того же дня: он должен был непременно переночевать.
– Как можно такою позднею порою отправляться в такую дальнюю дорогу! – всегда говорила Пульхерия Ивановна (гость обыкновенно жил в трех или в четырех верстах от них).
– Конечно, – говорил Афанасий Иванович, – неравно всякого случая: нападут разбойники или другой недобрый человек.
– Пусть Бог милует от разбойников! – говорила Пульхерия Ивановна. – И к чему рассказывать эдакое на ночь. Разбойники не разбойники, а время темное, не годится совсем ехать. Да и ваш кучер, я знаю вашего кучера, он такой тендитный да маленький, его всякая кобыла побьет; да притом теперь он уже, верно, наклюкался и спит где-нибудь.
И гость должен был непременно остаться; но, впрочем, вечер в низенькой теплой комнате, радушный, греющий и усыпляющий рассказ, несущийся пар от поданного на стол кушанья, всегда питательного и мастерски изготовленного, бывает для него наградою. Я вижу как теперь, как Афанасий Иванович, согнувшись, сидит на стуле с всегдашнею своею улыбкой и слушает со вниманием и даже наслаждением гостя! Часто речь заходила и об политике. Гость, тоже весьма редко выезжавший из своей деревни, часто с значительным видом и таинственным выражением лица выводил свои догадки и рассказывал, что француз тайно согласился с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта, или просто рассказывал о предстоящей войне, и тогда Афанасий Иванович часто говорил, как будто не глядя на Пульхерию Ивановну:
– Я сам думаю пойти на войну; почему ж я не могу идти на войну?
– Вот уже и пошел! – прерывала Пульхерия Ивановна. – Вы не верьте ему, – говорила она, обращаясь к гостю. – Где уже ему, старому, идти на войну! Его первый солдат и застрелит! Ей-богу, застрелит! Вот так-таки прицелится и застрелит.
– Что ж, – говорил Афанасий Иванович, – и я его застрелю.
– Вот слушайте только, что он говорит! – подхватывала Пульхерия Ивановна, – куда ему идти на войну! И пистоли его давно уже заржавели и лежат в коморе. Если б вы их видели: там такие, что, прежде еще нежели выстрелят, разорвет их порохом. И руки себе поотобьет, и лицо искалечит, и навеки несчастным останется!
– Что ж, – говорил Афанасий Иванович, – я куплю себе новое вооружение. Я возьму саблю или козацкую пику.
– Это все выдумки. Так вот вдруг придет в голову, и начнет рассказывать, – подхватывала Пульхерия Ивановна с досадою. – Я и знаю, что он шутит, а все-таки неприятно слушать. Вот эдакое он всегда говорит, иной раз слушаешь, слушаешь, да и страшно станет.
Но Афанасий Иванович, довольный тем, что несколько напугал Пульхерию Ивановну, смеялся, сидя согнувшись на своем стуле.
Пульхерия Ивановна для меня была занимательнее всего тогда, когда подводила гостя к закуске.
– Вот это, – говорила она, снимая пробку с графина, – водка, настоянная на деревий и шалфей. Если у кого болят лопатки или поясница, то очень помогает. Вот это на золототысячник: если в ушах звенит и по лицу лишаи делаются, то очень помогает. А вот эта – перегнанная на персиковые косточки; вот возьмите рюмку, какой прекрасный запах. Если как-нибудь, вставая с кровати, ударится кто об угол шкапа или стола и набежит на лбу гугля, то стоит только одну рюмочку выпить перед обедом – и все как рукой снимет, в ту же минуту все пройдет, как будто вовсе не бывало.
После этого такой перечет следовал и другим графинам, всегда почти имевшим какие-нибудь целебные свойства. Нагрузивши гостя всею этою аптекою, она подводила его ко множеству стоявших тарелок.
– Вот это грибки с чебрецом! это с гвоздиками и волошскими орехами! Солить их выучила меня туркеня, в то время, когда еще турки были у нас в плену. Такая была добрая туркеня, и незаметно совсем, чтобы турецкую веру исповедовала. Так совсем и ходит, почти как у нас; только свинины не ела: говорит, что у них как-то там в законе запрещено. Вот это грибки с смородинным листом и мушкатным орехом! А вот это большие травянки: я их еще в первый раз отваривала в уксусе; не знаю, каковы-то они; я узнала секрет от отца Ивана. В маленькой кадушке прежде всего нужно разостлать дубовые листья и потом посыпать перцем и селитрою и положить еще что бывает на нечуй -витере цвет, так этот цвет взять и хвостиками разостлать вверх. А вот это пирожки! это пирожки с сыром! это с урдою! а вот это те, которые Афанасий Иванович очень любит, с капустою и гречневою кашею.
– Да, – прибавлял Афанасий Иванович, – я их очень люблю; они мягкие и немножко кисленькие.
Вообще Пульхерия Ивановна была чрезвычайно в духе, когда бывали у них гости. Добрая старушка! Она вся принадлежала гостям. Я любил бывать у них, и хотя объедался страшным образом, как и все гостившие у них, хотя мне это было очень вредно, однако ж я всегда бывал рад к ним ехать. Впрочем, я думаю, что не имеет ли самый воздух в Малороссии какого-то особенного свойства, помогающего пищеварению, потому что если бы здесь вздумал кто-нибудь таким образом накушаться, то, без сомнения, вместо постели очутился бы лежащим на столе.
Добрые старички! Но повествование мое приближается к весьма печальному событию, изменившему навсегда жизнь этого мирного уголка. Событие это покажется тем более разительным, что произошло от самого маловажного случая. Но, по странному устройству вещей, всегда ничтожные причины родили великие события, и наоборот – великие предприятия оканчивались ничтожными следствиями. Какой-нибудь завоеватель собирает все силы своего государства, воюет несколько лет, полководцы его прославляются, и наконец все это оканчивается приобретением клочка земли, на котором негде посеять картофеля; а иногда, напротив, два какие-нибудь колбасника двух городов подерутся между собою за вздор, и ссора объемлет наконец города, потом села и деревни, а там и целое государство. Но оставим эти рассуждения: они не идут сюда. Притом я не люблю рассуждений, когда они остаются только рассуждениями.
У Пульхерии Ивановны была серенькая кошечка, которая всегда почти лежала, свернувшись клубком, у ее ног. Пульхерия Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцем по ее шейке, которую балованная кошечка вытягивала как можно выше. Нельзя сказать, чтобы Пульхерия Ивановна слишком любила ее, но просто привязалась к ней, привыкши ее всегда видеть. Афанасий Иванович, однако ж, часто подшучивал над такою привязанностию:
– Я не знаю, Пульхерия Ивановна, что вы такого находите в кошке. На что она? Если бы вы имели собаку, тогда бы другое дело: собаку можно взять на охоту, а кошка на что?
– Уж молчите, Афанасий Иванович, – говорила Пульхерия Ивановна, – вы любите только говорить, и больше ничего. Собака нечистоплотна, собака нагадит, собака перебьет все, а кошка тихое творение, она никому не сделает зла.
Впрочем, Афанасию Ивановичу было все равно, что кошки, что собаки; он для того только говорил так, чтобы немножко подшутить над Пульхерией Ивановной.
За садом находился у них большой лес, который был совершенно пощажен предприимчивым приказчиком, – может быть, оттого, что стук топора доходил бы до самых ушей Пульхерии Ивановны. Он был глух, запущен, старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей. В этом лесу обитали дикие коты. Лесных диких котов не должно смешивать с теми удальцами, которые бегают по крышам домов. Находясь в городах, они, несмотря на крутой нрав свой, гораздо более цивилизированы, нежели обитатели лесов. Это, напротив того, большею частию народ мрачный и дикий; они всегда ходят тощие, худые, мяукают грубым, необработанным голосом. Они подрываются иногда подземным ходом под самые амбары и крадут сало, являются даже в самой кухне, прыгнувши внезапно в растворенное окно, когда заметят, что повар пошел в бурьян. Вообще никакие благородные чувства им не известны; они живут хищничеством и душат маленьких воробьев в самых их гнездах. Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру под амбаром с кроткою кошечкою Пульхерии Ивановны и наконец подманили ее, как отряд солдат подманивает глупую крестьянку. Пульхерия Ивановна заметила пропажу кошки, послала искать ее, но кошка не находилась. Прошло три дня; Пульхерия Ивановна пожалела, наконец вовсе о ней позабыла. В один день, когда она ревизировала свой огород и возвращалась с нарванными своею рукою зелеными свежими огурцами для Афанасия Ивановича, слух ее был поражен самым жалким мяуканьем. Она, как будто по инстинкту, произнесла: «Кис, кис!» – и вдруг из бурьяна вышла ее серенькая кошка, худая, тощая; заметно было, что она несколько уже дней не брала в рот никакой пищи. Пульхерия Ивановна продолжала звать ее, но кошка стояла перед нею, мяукала и не смела близко подойти; видно было, что она очень одичала с того времени. Пульхерия Ивановна пошла вперед, продолжая звать кошку, которая боязливо шла за нею до самого забора. Наконец, увидевши прежние, знакомые места, вошла и в комнату. Пульхерия Ивановна тотчас приказала подать ей молока и мяса и, сидя перед нею, наслаждалась жадностию бедной своей фаворитки, с какою она глотала кусок за куском и хлебала молоко. Серенькая беглянка почти в глазах ее растолстела и ела уже не так жадно. Пульхерия Ивановна протянула руку, чтобы погладить ее, но неблагодарная, видно, уже слишком свыклась с хищными котами или набралась романических правил, что бедность при любви лучше палат, а коты были голы как соколы; как бы то ни было, она выпрыгнула в окошко, и никто из дворовых не мог поймать ее.
Задумалась старушка. «Это смерть моя приходила за мною!» – сказала она сама в себе, и ничто не могло ее рассеять. Весь день она была скучна. Напрасно Афанасий Иванович шутил и хотел узнать, отчего она так вдруг загрустила: Пульхерия Ивановна была безответна или отвечала совершенно не так, чтобы можно было удовлетворить Афанасия Ивановича. На другой день она заметно похудела.
– Что это с вами, Пульхерия Ивановна? Уж не больны ли вы?
– Нет, я не больна, Афанасий Иванович! Я хочу вам объявить одно особенное происшествие: я знаю, что я этим летом умру; смерть моя уже приходила за мною!
Уста Афанасия Ивановича как-то болезненно искривились. Он хотел, однако ж, победить в душе своей грустное чувство и, улыбнувшись, сказал:
– Бог знает что вы говорите, Пульхерия Ивановна! Вы, верно, вместо декохта, что часто пьете, выпили персиковой.
– Нет, Афанасий Иванович, я не пила персиковой, – сказала Пульхерия Ивановна.
И Афанасию Ивановичу сделалось жалко, что он так пошутил над Пульхерией Ивановной, и он смотрел на нее, и слеза повисла на его реснице.
– Я прошу вас, Афанасий Иванович, чтобы вы исполнили мою волю, – сказала Пульхерия Ивановна. – Когда я умру, то похороните меня возле церковной ограды. Платье наденьте на меня серенькое – то, что с небольшими цветочками по коричневому полю. Атласного платья, что с малиновыми полосками, не надевайте на меня: мертвой уже не нужно платье. На что оно ей? А вам оно пригодится: из него сошьете себе парадный халат на случай, когда приедут гости, то чтобы можно было вам прилично показаться и принять их.
– Бог знает что вы говорите, Пульхерия Ивановна! – говорил Афанасий Иванович, – когда-то еще будет смерть, а вы уже стращаете такими словами.
– Нет, Афанасий Иванович, я уже знаю, когда моя смерть. Вы, однако ж, не горюйте за мною: я уже старуха и довольно пожила, да и вы уже стары, мы скоро увидимся на том свете.
Но Афанасий Иванович рыдал, как ребенок.
– Грех плакать, Афанасий Иванович! Не грешите и Бога не гневите своею печалью. Я не жалею о том, что умираю. Об одном только жалею я (тяжелый вздох прервал на минуту речь ее): я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас, кто присмотрит за вами, когда я умру. Вы как дитя маленькое: нужно, чтобы любил вас тот, кто будет ухаживать за вами.
При этом на лице ее выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, мог ли бы кто-нибудь в то время глядеть на нее равнодушно.
– Смотри мне, Явдоха, – говорила она, обращаясь к ключнице, которую нарочно велела позвать, – когда я умру, чтобы ты глядела за паном, чтобы берегла его, как гла́за своего, как свое родное дитя. Гляди, чтобы на кухне готовилось то, что он любит. Чтобы белье и платье ты ему подавала всегда чистое; чтобы, когда гости случатся, ты принарядила его прилично, а то, пожалуй, он иногда выйдет в старом халате, потому что и теперь часто позабывает он, когда праздничный день, а когда будничный. Не своди с него глаз. Явдоха, я буду молиться за тебя на том свете, и Бог наградит тебя. Не забывай же, Явдоха; ты уже стара, тебе не долго жить, не набирай греха на душу. Когда же не будешь за ним присматривать, то не будет тебе счастия на свете. Я сама буду просить Бога, чтобы не давал тебе благополучной кончины. И сама ты будешь несчастна, и дети твои будут несчастны, и весь род ваш не будет иметь ни в чем благословения Божия.
Бедная старушка! она в то время не думала ни о той великой минуте, которая ее ожидает, ни о душе своей, ни о будущей своей жизни; она думала только о бедном своем спутнике, с которым провела жизнь и которого оставляла сирым и бесприютным. Она с необыкновенною расторопностию распорядила все таким образом, чтобы после нее Афанасий Иванович не заметил ее отсутствия. Уверенность ее в близкой своей кончине так была сильна и состояние души ее так было к этому настроено, что действительно чрез несколько дней она слегла в постелю и не могла уже принимать никакой пищи. Афанасий Иванович весь превратился во внимательность и не отходил от ее постели. «Может быть, вы чего-нибудь бы покушали, Пульхерия Ивановна?» – говорил он, с беспокойством смотря в глаза ей. Но Пульхерия Ивановна ничего не говорила. Наконец, после долгого молчания, как будто хотела она что-то сказать, пошевелила губами – и дыхание ее улетело.
Афанасий Иванович был совершенно поражен. Это так казалось ему дико, что он даже не заплакал. Мутными глазами глядел он на нее, как бы не понимая значения трупа.
Покойницу положили на стол, одели в то самое платье, которое она сама назначила, сложили ей руки крестом, дали в руки восковую свечу, – он на все это глядел бесчувственно. Множество народа всякого звания наполнило двор, множество гостей приехало на похороны, длинные столы расставлены были по двору; кутья, наливки, пироги покрывали их кучами; гости говорили, плакали, глядели на покойницу, рассуждали о ее качествах, смотрели на него, – но он сам на все это глядел странно. Покойницу понесли наконец, народ повалил следом, и он пошел за нею; священники были в полном облачении, солнце светило, грудные ребенки плакали на руках матерей, жаворонки пели, дети в рубашонках бегали и резвились по дороге. Наконец гроб поставили над ямой, ему велели подойти и поцеловать в последний раз покойницу; он подошел, поцеловал, на глазах его показались слезы, – но какие-то бесчувственные слезы. Гроб опустили, священник взял заступ и первый бросил горсть земли, густой протяжный хор дьячка и двух пономарей пропел вечную память под чистым, безоблачным небом, работники принялись за заступы, и земля уже покрыла и сровняла яму, – в это время он пробрался вперед; все расступились, дали ему место, желая знать его намерение. Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал: «Так вот это вы уже и погребли ее! зачем?!» Он остановился и не докончил своей речи.
Но когда возвратился он домой, когда увидел, что пусто в его комнате, что даже стул, на котором сидела Пульхерия Ивановна, был вынесен, – он рыдал, рыдал сильно, рыдал неутешно, и слезы, как река, лились из его тусклых очей.
Пять лет прошло с того времени. Какого горя не уносит время? Какая страсть уцелеет в неровной битве с ним? Я знал одного человека в цвете юных еще сил, исполненного истинного благородства и достоинств, я знал его влюбленным нежно, страстно, бешено, дерзко, скромно, и при мне, при моих глазах почти, предмет его страсти – нежная, прекрасная, как ангел, – была поражена ненасытною смертию. Я никогда не видал таких ужасных порывов душевного страдания, такой бешеной, палящей тоски, такого пожирающего отчаяния, какие волновали несчастного любовника. Я никогда не думал, чтобы мог человек создать для себя такой ад, в котором ни тени, ни образа и ничего, что бы сколько-нибудь походило на надежду… Его старались не выпускать с глаз; от него спрятали все орудия, которыми бы он мог умертвить себя. Две недели спустя он вдруг победил себя: начал смеяться, шутить; ему дали свободу, и первое, на что он употребил ее, это было – купить пистолет. В один день внезапно раздавшийся выстрел перепугал ужасно его родных. Они вбежали в комнату и увидели его распростертого, с раздробленным черепом. Врач, случившийся тогда, об искусстве которого гремела всеобщая молва, увидел в нем признаки существования, нашел рану не совсем смертельною, и он, к изумлению всех, был вылечен. Присмотр за ним увеличили еще более. Даже за столом не клали возле него ножа и старались удалить все, чем бы мог он себя ударить; но он в скором времени нашел новый случай и бросился под колеса проезжавшего экипажа. Ему растрощило руку и ногу; но он опять был вылечен. Год после этого я видел его в одном многолюдном зале: он сидел за столом, весело говорил: «петит-уверт», закрывши одну карту, и за ним стояла, облокотившись на спинку его стула, молоденькая жена его, перебирая его марки.
По истечении сказанных пяти лет после смерти Пульхерии Ивановны я, будучи в тех местах, заехал в хуторок Афанасия Ивановича навестить моего старинного соседа, у которого когда-то приятно проводил день и всегда объедался лучшими изделиями радушной хозяйки. Когда я подъехал ко двору, дом мне показался вдвое старее, крестьянские избы совсем легли набок – без сомнения, так же, как и владельцы их; частокол и плетень в дворе были совсем разрушены, и я видел сам, как кухарка выдергивала из него палки для затопки печи, тогда как ей нужно было сделать только два шага лишних, чтобы достать тут же наваленного хвороста. Я с грустью подъехал к крыльцу; те же самые барбосы и бровки, уже слепые или с перебитыми ногами, залаяли, поднявши вверх свои волнистые, обвешанные репейниками хвосты. Навстречу вышел старик. Так это он! я тотчас же узнал его; но он согнулся уже вдвое против прежнего. Он узнал меня и приветствовал с тою же знакомою мне улыбкою. Я вошел за ним в комнаты; казалось, все было в них по-прежнему; но я заметил во всем какой-то странный беспорядок, какое-то ощутительное отсутствие чего-то; словом, я ощутил в себе те странные чувства, которые овладевают нами, когда мы вступаем в первый раз в жилище вдовца, которого прежде знали нераздельным с подругою, сопровождавшею его всю жизнь. Чувства эти бывают похожи на то, когда видим перед собою без ноги человека, которого всегда знали здоровым. Во всем видно было отсутствие заботливой Пульхерии Ивановны: за столом подали один нож без черенка; блюда уже не были приготовлены с таким искусством. О хозяйстве я не хотел и спросить, боялся даже и взглянуть на хозяйственные заведения.
Когда мы сели за стол, девка завязала Афанасия Ивановича салфеткою, – и очень хорошо сделала, потому что без того он бы весь халат свой запачкал соусом. Я старался его чем-нибудь занять и рассказывал ему разные новости; он слушал с тою же улыбкою, но по временам взгляд его был совершенно бесчувствен, и мысли в нем не бродили, но исчезали. Часто поднимал он ложку с кашею и, вместо того чтобы подносить ко рту, подносил к носу; вилку свою, вместо того чтобы воткнуть в кусок цыпленка, он тыкал в графин, и тогда девка, взявши его за руку, наводила на цыпленка. Мы иногда ожидали по несколько минут следующего блюда. Афанасий Иванович уже сам замечал это и говорил: «Что это так долго не несут кушанья?» Но я видел сквозь щель в дверях, что мальчик, разносивший нам блюда, вовсе не думал о том и спал, свесивши голову на скамью.
«Вот это то кушанье, – сказал Афанасий Иванович, когда подали нам мнишки со сметаною, – это то кушанье, – продолжал он, и я заметил, что голос его начал дрожать и слеза готовилась выглянуть из его свинцовых глаз, но он собирал все усилия, желая удержать ее. – Это то кушанье, которое по… по… покой… покойни…» – и вдруг брызнул слезами. Рука его упала на тарелку, тарелка опрокинулась, полетела и разбилась, соус залил его всего; он сидел бесчувственно, бесчувственно держал ложку, и слезы, как ручей, как немолчно текущий фонтан, лились, лились ливмя на застилавшую его салфетку.
«Боже! – думал я, глядя на него, – пять лет всеистребляющего времени – старик уже бесчувственный, старик, которого жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное ощущение души, которого вся жизнь, казалось, состояла только из сидения на высоком стуле, из ядения сушеных рыбок и груш, из добродушных рассказов, – и такая долгая, такая жаркая печаль! Что же сильнее над нами: страсть или привычка? Или все сильные порывы, весь вихорь наших желаний и кипящих страстей – есть только следствие нашего яркого возраста и только по тому одному кажутся глубоки и сокрушительны?» Что бы ни было, но в это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной, почти бесчувственной привычки. Несколько раз силился он выговорить имя покойницы, но на половине слова спокойное и обыкновенное лицо его судорожно исковеркивалось, и плач дитяти поражал меня в самое сердце. Нет, это не те слезы, на которые обыкновенно так щедры старички, представляющие вам жалкое свое положение и несчастия; это были также не те слезы, которые они роняют за стаканом пуншу; нет! это были слезы, которые текли не спрашиваясь, сами собою, накопляясь от едкости боли уже охладевшего сердца.
Он не долго после того жил. Я недавно услышал об его смерти. Странно, однако же, то, что обстоятельства кончины его имели какое-то сходство с кончиною Пульхерии Ивановны. В один день Афанасий Иванович решился немного пройтись по саду. Когда он медленно шел по дорожке с обыкновенною своею беспечностию, вовсе не имея никакой мысли, с ним случилось странное происшествие. Он вдруг услышал, что позади его произнес кто-то довольно явственным голосом: «Афанасий Иванович!» Он оборотился, но никого совершенно не было, посмотрел во все стороны, заглянул в кусты – нигде никого. День был тих, и солнце сияло. Он на минуту задумался; лицо его как-то оживилось, и он наконец произнес: «Это Пульхерия Ивановна зовет меня!»
Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют тем, что душа стосковалась за человеком и призывает его, и после которого следует неминуемо смерть. Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился, тишина была мертвая, даже кузнечик в это время переставал кричать; ни души в саду; но, признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем адом стихий, настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада, и тогда только успокоивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню.
Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его; он покорился с волею послушного ребенка, сохнул, кашлял, таял как свечка и наконец угас так, как она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать бедное ее пламя. «Положите меня возле Пульхерии Ивановны», – вот все, что произнес он перед своею кончиною.
Желание его исполнили и похоронили возле церкви, близ могилы Пульхерии Ивановны. Гостей было меньше на похоронах, но простого народа и нищих было такое же множество. Домик барский уже сделался вовсе пуст. Предприимчивый приказчик вместе с войтом перетащили в свои избы все оставшиеся старинные вещи и рухлядь, которую не могла утащить ключница. Скоро приехал, неизвестно откуда, какой-то дальний родственник, наследник имения, служивший прежде поручиком, не помню в каком полку, страшный реформатор. Он увидел тотчас величайшее расстройство и упущение в хозяйственных делах; все это решился он непременно искоренить, исправить и ввести во всем порядок. Накупил шесть прекрасных английских серпов, приколотил к каждой избе особенный номер и, наконец, так хорошо распорядился, что имение через шесть месяцев взято было в опеку. Мудрая опека (из одного бывшего заседателя и какого-то штабс-капитана в полинялом мундире) перевела в непродолжительное время всех кур и все яйца. Избы, почти совсем лежавшие на земле, развалились вовсе; мужики распьянствовались и стали большею частию числиться в бегах. Сам же настоящий владетель, который, впрочем, жил довольно мирно с своею опекою и пил вместе с нею пунш, приезжал очень редко в свою деревню и проживал недолго. Он до сих пор ездит по всем ярмаркам в Малороссии; тщательно осведомляется о ценах на разные большие произведения, продающиеся оптом, как то: муку, пеньку, мед и прочее, но покупает только небольшие безделушки, как то: кремешки, гвоздь прочищать трубку и вообще все то, что не превышает всем оптом своим цены одного рубля.
Примечания
Камлот – шерстяная ткань.
Компанейцы – солдаты и офицеры кавалерийских полков, формировавшихся из добровольцев.
Лембик – резервуар для перегонки и очистки водки.
Войт – сельский староста.
Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своею пестротою и совершенною противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плеснь, и лишенное щекотурки крыльцо не показывает своих красных кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владетелей так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и те неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют, и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галлереею из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущею вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишень и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом; развесистый клен, в тени которого разостлан для отдыха ковер; перед домом просторный двор с низенькою свежею травкою, с протоптанною дорожкою от амбара до кухни и от кухни до барских покоев; длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами; частокол, обвешанный связками сушеных груш и яблок и проветривающимися коврами, воз с дынями, стоящий возле амбара, отпряженный вол, лениво лежащий возле него, - всё это для меня имеет неизъяснимую прелесть, может быть, оттого, что я уже не вижу их и что нам мило всё то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние; лошади весело подкачивали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом свой; самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков, старички, старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе среди модных фраков, и тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое. На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя по крайней мере на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную буколическую жизнь.
Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы! теперь уже нет, но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне опустелое жилище, и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик - и ничего более. Грустно! мне заранее грустно! Но обратимся к рассказу. Афанасий Иванович Товстогуб и жена его Пульхерия Ивановна Товстогубиха, по выражению окружных мужиков, были те старики, о которых я начал рассказывать. Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их. Афанасию Ивановичу было шестьдесят лет, Пульхерии Ивановне пятьдесят пять. Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, покрытом камлотом, сидел согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рассказывал или просто слушал. Пульхерия Ивановна была несколько сурьезна, почти никогда не смеялась; но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторною для ее доброго лица. Легкие морщины на их лицах были расположены с такою приятностию, что художник верно бы украл их. По ним можно было, казалось, читать всю жизнь их, ясную, спокойную жизнь, которую вели старые национальные, простосердечные и вместе богатые фамилии, всегда составляющие противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю копейку с своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают наконец капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на о , слог въ . Нет, они не были похожи на этих презренных и жалких творений, так же как и все малороссийские старинные и коренные фамилии. Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу ты, но всегда вы: вы, Афанасий Иванович; вы, Пульхерия Ивановна. „Это вы продавили стул, Афанасий Иванович?“ - „Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна: это я.“ Они никогда не имели детей, и оттого вся привязанность их сосредоточилась в них самих. Когда-то, в молодости, Афанасий Иванович служил в компанейцах, был после секунд-майором, но это уже было очень давно, уже прошло, уже сам Афанасий Иванович почти никогда не вспоминал о нем. Афанасий Иванович женился тридцати лет, когда был молодцом и носил шитый камзол; он даже увез довольно ловко Пульхерию Ивановну, которую родственники не хотели отдать за него; но и об этом уже он очень мало помнил, по крайней мере никогда не говорил о нем. Все эти давние, необыкновенные происшествия давно превратились или заменились спокойною и уединенною жизнию, теми дремлющими и вместе какими-то гармоническими грезами, которые ощущаете вы, сидя на деревенском балконе, обращенном в сад, когда прекрасный дождь роскошно шумит, хлопая по древесным листьям, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тем радуга крадется из-за деревьев и в виде полуразрушенного свода светит матовыми семью цветами на небе. Или когда укачивает вас коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепел гремит, и душистая трава вместе с хлебными колосьями и полевыми цветами лезет в дверцы коляски, приятно ударяя вас по рукам и лицу. Он всегда слушал с приятною улыбкою гостей, приезжавших к нему, иногда и сам говорил, но более расспрашивал. Он не принадлежал к числу тех стариков, которые надоедают вечными похвалами старому времени или порицаниями нового. Он, напротив, расспрашивая вас, показывал большое любопытство и участие в обстоятельствах вашей собственной жизни, удачах и неудачах, которыми обыкновенно интересуются все добрые старики, хотя оно несколько похоже на любопытство ребенка, который в то время, когда говорит с вами, рассматривает печатку ваших часов. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротою. Комнаты домика, в котором жили наши старички, были маленьки, низеньки, какие обыкновенно встречаются у старосветских людей. В каждой комнате была огромная печь, занимавшая почти третью часть ее. Комнатки эти были ужасно теплы, потому что и Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна очень любили теплоту. Топки их были все проведены в сени, всегда почти до самого потолка наполненные соломою, которую обыкновенно употребляют в Малороссии вместо дров. Треск этой горящей соломы и освещение делают сени чрезвычайно приятными в зимний вечер, когда, прозябнувши от преследования за какой-нибудь брюнеткой, вбегаешь в них, похлопывая ладонями. Стены комнат убраны были несколькими картинами и картинками в старинных узеньких рамах. Я уверен, что сами хозяева давно позабыли их содержание, и если бы некоторые из них были унесены, то они бы, верно, этого не заметили. Два портрета было больших, писанных масляными красками. Один представлял какого-то архиерея, другой Петра III. Из узеньких рам глядела герцогиня Лавальер, обпачканная мухами. Вокруг окон и над дверями находилось множество небольших картинок, которых как-то привыкаешь почитать за пятна на стене и потому их вовсе не рассматриваешь. Пол почти во всех комнатах был глиняный, но так чисто вымазанный и содержался с такою опрятностию, с какою, верно, не содержался ни один паркет в богатом доме, лениво подметаемый невыспавшимся господином в ливрее. Комната Пульхерии Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и сундучечками. Множество узелков и мешков с семенами, цветочными, огородными, арбузными, висели по стенам. Множество клубков с разноцветной шерстью, лоскутков старинных платьев, шитых за полстолетия прежде, были укладены по углам в сундучках и между сундучками. Пульхерия Ивановна была большая хозяйка и собирала всё, хотя иногда сама не знала, на что оно потом употребится. Но самое замечательное в доме - были поющие двери. Как только наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего они пели; перержавевшие ли петли были тому виною, или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет; но замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный голос; дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким дискантом; дверь, ведшая в столовую, хрипела басом; но та, которая была в сенях, издавала какой-то странный дребезжащий и вместе стонущий звук, так что, вслушиваясь в него, очень ясно, наконец, слышалось: батюшки, я зябну! Я знаю, что многим очень не нравится сей звук; но я его очень люблю, и если мне случится иногда здесь услышать скрып дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревнею, низенькой комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике, ужином, уже стоящим на столе, майскою темною ночью, глядящею из сада, сквозь растворенное окно, на стол, уставленный приборами, соловьем, обдающим сад, дом и дальнюю реку своими раскатами, страхом и шорохом ветвей… и боже, какая длинная навевается мне тогда вереница воспоминаний! Стулья в комнате были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличается старина; они были все с высокими выточенными спинками в натуральном виде, без всякого лака и краски; они не были даже обиты материею и были несколько похожи на те стулья, на которые и доныне садятся архиереи. Трехугольные столики по углам, четырехугольные перед диваном и зеркалом в тоненьких золотых рамах, выточенных листьями, которых мухи усеяли черными точками, ковер перед диваном с птицами, похожими на цветы, и цветами, похожими на птиц, - вот всё почти убранство невзыскательного домика, где жили мои старики. Девичья была набита молодыми и немолодыми девушками в полосатых исподницах, которым иногда Пульхерия Ивановна давала шить какие-нибудь безделушки и заставляла чистить ягоды, но которые большею частию бегали на кухню и спали. Пульхерия Ивановна почитала необходимостию держать их в доме и строго смотрела за их нравственностью. Но, к чрезвычайному ее удивлению, не проходило нескольких месяцев, чтобы у которой-нибудь из ее девушек стан не делался гораздо полнее обыкновенного; тем более это казалось удивительно, что в доме почти никого не было из холостых людей, выключая разве только комнатного мальчика, который ходил в сером полуфраке с босыми ногами и если не ел, то уж верно спал. Пульхерия Ивановна обыкновенно бранила виновную и наказывала строго, чтобы вперед этого не было. На стеклах окон звенело страшное множество мух, которых всех покрывал толстый бас шмеля, иногда сопровождаемый пронзительными визжаниями ос; но как только подавали свечи, вся эта ватага отправлялась на ночлег и покрывала черною тучею весь потолок.
Афанасий Иванович очень мало занимался хозяйством, хотя впрочем ездил иногда к косарям и жнецам и смотрел довольно пристально на их работу; всё бремя правления лежало на Пульхерии Ивановне. Хозяйство Пульхерии Ивановны состояло в беспрестанном отпирании и запирании кладовой, в солении, сушении, варении бесчисленного множества фруктов и растений. Ее дом был совершенно похож на химическую лабораторию. Под яблонею вечно был разложен огонь; и никогда почти не снимался с железного треножника котел или медный таз с вареньем, желем, пастилою, деланными на меду, в сахаре и не помню еще на чем. Под другим деревом кучер вечно перегонял в медном лембике водку на персиковые листья, на черемуховый цвет, на золототысячник, на вишневые косточки, и к концу этого процесса совершенно не был в состоянии поворотить языком, болтал такой вздор, что Пульхерия Ивановна ничего не могла понять, и отправлялся на кухню спать. Всей этой дряни наваривалось, насоливалось, насушивалось такое множество, что, вероятно, они потопили бы наконец весь двор, потому что Пульхерия Ивановна всегда сверх расчисленного на потребление любила приготовлять еще на запас, если бы большая половина этого не съедалась дворовыми девками, которые, забираясь в кладовую, так ужасно там объедались, что целый день стонали и жаловались на животы свои. В хлебопашество и прочие хозяйственные статьи вне двора Пульхерия Ивановна мало имела возможности входить. Приказчик, соединившись с войтом, обкрадывали немилосердным образом. Они завели обыкновение входить в господские леса, как в свои собственные, наделывали из них множество саней и продавали их на ближней ярмарке; кроме того, все толстые дубы они продавали на сруб для мельниц соседним козакам. Один только раз Пульхерия Ивановна пожелала обревизировать свои леса. Для этого были запряжены дрожки, с огромными кожаными фартухами, от которых, как только кучер встряхивал возжами и лошади, служившие еще в милиции, трогались с своего места, воздух наполнялся странными звуками, так что вдруг были слышны, и флейта, и бубны и барабан; каждый гвоздик и железная скобка звенели до того, что возле самых мельниц было слышно, как пани выезжала со двора, хотя это расстояние было не менее двух верст. Пульхерия Ивановна не могла не заметить страшного опустошения в лесу и потери тех дубов, которых она еще в детстве знавала столетними.
„Отчего это у тебя, Ничипор“, сказала она, обратясь к своему приказчику, тут же находившемуся: „дубки сделались так редкими? Гляди, чтобы у тебя волосы не были редки.“
„Отчего редки?“ говаривал обыкновенно приказчик: „пропали! Так-таки совсем пропали: и громом побило, и черви проточили - пропали, пани, пропали.“
Пульхерия Ивановна совершенно удовлетворялась этим ответом и, приехавши домой, давала повеление удвоить только стражу в саду около шпанских вишень и больших зимних дулей. Эти достойные правители, приказчик и войт, нашли вовсе излишним привозить всю муку в барские амбары; а что с бар будет довольно и половины; наконец и эту половину привозили они заплесневшую или подмоченную, которую обраковали на ярмарке. Но сколько ни обкрадывали приказчик и войт, как ни ужасно жрали все в дворе, начиная от ключницы до свиней, которые истребляли страшное множество слив и яблок, и часто собственною мордою толкали дерево, чтобы стряхнуть с него целый дождь фруктов, сколько ни клевали их воробьи и вороны, сколько вся дворня ни носила гостинцев своим кумовьям в другие деревни и даже таскала из амбаров старые полотна и пряжу, что́ всё обращалось к всемирному источнику, т. е. к шинку, сколько ни крали гости, флегматические кучера и лакеи, - но благословенная земля производила всего в таком множестве, Афанасию Ивановичу и Пульхерии Ивановне так мало было нужно, что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве.
Оба старички, по старинному обычаю старосветских помещиков, очень любили покушать. Как только занималась заря (они всегда вставали рано) и двери заводили свой разногласный концерт, они уже сидели за столиком и пили кофий. Напившись кофею, Афанасий Иванович выходил в сени и, стряхнувши платком, говорил: „Киш, киш! пошли, гуси, с крыльца!“ На дворе ему обыкновенно попадался приказчик. Он, по обыкновению, вступал с ним в разговор, расспрашивал о работах, с величайшею подробностью, и такие сообщал ему замечания и приказания, которые удивили бы всякого необыкновенным познанием хозяйства, и какой-нибудь новичок не осмелился бы и подумать о том, чтобы можно было украсть у такого зоркого хозяина. Но приказчик его был обстрелянная птица: он знал, как нужно отвечать, а еще более, как нужно хозяйничать.
После этого Афанасий Иванович возвращался в покои и говорил, приблизившись к Пульхерии Ивановне: „А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь.“
„Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? Разве коржиков с салом, или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых?“
„Пожалуй, хоть и рыжиков, или пирожков“, отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками.
За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в двенадцать часов. Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшечков с замазанными крышками, чтобы не могло выдыхаться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах самых близких к обеду.
„Мне кажется, как будто эта каша“, говаривал обыкновенно Афанасий Иванович, „немного пригорела; вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?“
„Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелою, или вот возьмите этого соуса с грибками и подлейте к ней.“
„Пожалуй“, говорил Афанасий Иванович и подставлял свою тарелку: „попробуем, как оно будет.“
После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть один часик, после чего Пульхерия Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила: „Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз.“
„Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный в средине“, говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть: „бывает что и красный, да нехороший.“
Но арбуз немедленно исчезал. После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхерией Ивановной. Пришедши домой, Пульхерия Ивановна отправлялась по своим делам, а он садился под навесом, обращенным к двору, и глядел, как кладовая беспрестанно показывала и закрывала свою внутренность, и девки, толкая одна другую, то вносили, то выносили кучу всякого дрязгу в деревянных ящиках, решетах, ночевках и в прочих фруктохранилищах. Немного погодя он посылал за Пульхерией Ивановной, или сам отправлялся к ней и говорил: „чего бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?“
„Чего же бы такого?“ говорила Пульхерия Ивановна: „разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых приказала я нарочно для вас оставить?“
„И то добре“, отвечал Афанасий Иванович.
„Или может быть, вы съели бы киселику?“
„И то хороше“, отвечал Афанасий Иванович. После чего всё это немедленно было приносимо и, как водится, было съедаемо.
Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого садились ужинать. После ужина тотчас отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась в этом деятельном и вместе спокойном уголке. Комната, в которой спали Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, была так жарка, что редкий был бы в состоянии остаться в ней несколько часов. Но Афанасий Иванович еще сверх того, чтобы было теплее, спал на лежанке, хотя сильный жар часто заставлял его несколько раз вставать среди ночи и прохаживаться по комнате. Иногда Афанасий Иванович, ходя по комнате, стонал.
Тогда Пульхерия Ивановна спрашивала: „чего вы стонете, Афанасий Иванович?“
„Бог его знает, Пульхерия Ивановна, так как будто немного живот болит“, говорил Афанасий Иванович.
„Может быть, вы бы чего-нибудь съели, Афанасий Иванович?“
„Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна! впрочем, чего ж бы такого съесть?“
„Кислого молочка, или жиденького узвару с сушеными грушами.“
„Пожалуй, разве так только попробовать“, говорил Афанасий Иванович. Сонная девка отправлялась рыться по шкафам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку; после чего он обыкновенно говорил: „теперь так как будто сделалось легче.“
Иногда, если было ясное время и в комнатах довольно тепло натоплено, Афанасий Иванович, развеселившись, любил пошутить над Пульхериею Ивановною и поговорить о чем-нибудь постороннем.
„А что, Пульхерия Ивановна“, говорил он: „если бы вдруг загорелся дом наш, куда бы мы делись?“
„Вот это боже сохрани!“ говорила Пульхерия Ивановна, крестясь.
„Ну, да положим, что дом наш сгорел, куда бы мы перешли тогда?“
„Бог знает, что вы говорите, Афанасий Иванович! как можно, чтобы дом мог сгореть: бог этого не попустит.“
„Ну, а если бы сгорел?“
„Ну, тогда бы мы перешли в кухню. Вы бы заняли на время ту комнатку, которую занимает ключница.“
„А если бы и кухня сгорела?“
„Вот пусть бог сохранит от такого попущения, чтобы вдруг и дом, и кухня сгорели! Ну, тогда бы в кладовую, покамест выстроился бы новый дом.“
„А если бы и кладовая сгорела?“
„Бог знает, что вы говорите! я и слушать вас не хочу! Грех это говорить, и бог наказывает за такие речи.“
Но Афанасий Иванович, довольный тем, что подшутил над Пульхериею Ивановною, улыбался, сидя на своем стуле.
Но интереснее всего казались для меня старички в то время, когда бывали у них гости. Тогда всё в их доме принимало другой вид. Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Всё, что у них ни было лучшего, всё это выносилось. Они наперерыв старались угостить вас всем, что только производило их хозяйство. Но более всего приятно мне было то, что во всей их услужливости не было никакой приторности. Это радушие и готовность так кротко выражались на их лицах, так шли к ним, что поневоле соглашался на их просьбы. Они были следствие чистой, ясной простоты их добрых, бесхитростных душ. Это радушие вовсе не то, с каким угощает вас чиновник казенной палаты, вышедший в люди вашими стараниями, называющий вас благодетелем и ползающий у ног ваших. Гость никаким образом не был отпускаем того же дни: он должен был непременно переночевать.
„Как можно такою позднею порою отправляться в такую дальнюю дорогу!“ всегда говорила Пульхерия Ивановна (гость обыкновенно жил в трех или в четырех от них верстах).
„Конечно“, говорил Афанасий Иванович: „неравно всякого случая: нападут разбойники или другой недобрый человек.“
„Пусть бог милует от разбойников!“ говорила Пульхерия Ивановна. „И к чему рассказывать эдакое на ночь. Разбойники не разбойники; а время темное, не годится совсем ехать. Да и ваш кучер, я знаю вашего кучера, он такой тендитный да маленький, его всякая кобыла побьет; да притом теперь он уже, верно, наклюкался и спит где-нибудь.“
И гость должен был непременно остаться; но, впрочем, вечер в низенькой теплой комнате, радушный, греющий и усыпляющий рассказ, несущийся пар от поданного на стол кушанья, всегда питательного и мастерски сготовленного, бывает для него наградою. Я вижу как теперь, как Афанасий Иванович согнувшись сидит на стуле с всегдашнею своею улыбкой и слушает со вниманием и даже наслаждением гостя! Часто речь заходила и об политике. Гость, тоже весьма редко выезжавший из своей деревни, часто с значительным видом и таинственным выражением лица выводил свои догадки и рассказывал, что француз тайно согласился с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта, или просто рассказывал о предстоящей войне, и тогда Афанасий Иванович часто говорил, как будто не глядя на Пульхерию Ивановну:
„Я сам думаю пойти на войну; почему ж я не могу итти на войну?“
„Вот уже и пошел!“ прерывала Пульхерия Ивановна. „Вы не верьте ему“, говорила она, обращаясь к гостю. „Где уже ему старому итти на войну! Его первый солдат застрелит! Ей богу, застрелит! Вот так-таки прицелится и застрелит.“
„Что ж“, говорил Афанасий Иванович: „и я его застрелю.“
„Вот слушайте только, что он говорит!“ подхватывала Пульхерия Ивановна: „куда ему итти на войну! И пистоли его давно уже заржавели и лежат в коморе. Если б вы их видели: там такие, что прежде еще нежели выстрелят, разорвет их порохом. И руки себе поотбивает и лицо искалечит и навеки несчастным останется!“
„Что ж“, говорил Афанасий Иванович: „я куплю себе новое вооружение. Я возьму саблю или козацкую пику.“
„Это всё выдумки. Так вот вдруг придет в голову и начнет рассказывать“, подхватывала Пульхерия Ивановна с досадою. „Я и знаю, что он шутит, но всё-таки неприятно слушать. Вот этакое он всегда говорит, иной раз слушаешь, слушаешь, да и страшно станет.“
Но Афанасий Иванович, довольный тем, что несколько напугал Пульхерию Ивановну, смеялся, сидя согнувшись на своем стуле.
Пульхерия Ивановна для меня была занимательнее всего тогда, когда подводила гостя к закуске. „Вот это“, говорила она, снимая пробку с графина: „водка, настоенная на деревий и шалфей. Если у кого болят лопатки или поясница, то она очень помогает. Вот это на золототысячник: если в ушах звенит и по лицу лишаи делаются, то очень помогает. А вот эта перегнанная на персиковые косточки, вот возьмите рюмку, какой прекрасный запах. Если как-нибудь, вставая с кровати, ударится кто об угол шкапа или стола, и набежит на лбу гугля, то стоит только одну рюмочку выпить перед обедом - и всё как рукой снимет, в ту же минуту всё пройдет, как будто вовсе не бывало.“ После этого такой перечет следовал и другим графинам, всегда почти имевшим какие-нибудь целебные свойства. Нагрузивши гостя всею этою аптекою, она подводила его ко множеству стоявших тарелок. „Вот это грибки с чебрецом! это с гвоздиками и волошскими орехами; солить их выучила меня туркеня, в то время, когда еще турки были у нас в плену. Такая была добрая туркеня и не заметно совсем, чтобы турецкую веру исповедывала. Так совсем и ходит почти, как у нас; только свинины не ела: говорит, что у них как-то там в законе запрещено. Вот это грибки с смородинным листом и мушкатным орехом! А вот это большие травянки: я их еще в первый раз мариновала; не знаю, каковы-то они; я узнала секрет от отца Ивана. В маленькой кадушке прежде всего нужно разостлать дубовые листья и потом посыпать перцем и селитрою и положить еще, что бывает на нечуйвитере, цвет, так этот цвет взять и хвостиками разостлать вверх. А вот это пирожки! это пирожки с сыром! это с урдою! а вот это те, которые Афанасий Иванович очень любит, с капустою и гречневого кашею.“
„Да“, прибавлял Афанасий Иванович: „я их очень люблю; они мягкие и немножко кисленькие.“
Вообще Пульхерия Ивановна была чрезвычайно в духе, когда бывали у них гости. Добрая старушка! Она вся была отдана гостям. Я любил бывать у них и хотя объедался страшным образом, как и все, гостившие у них, хотя мне это было очень вредно, однако ж я всегда бывал рад к ним ехать. Впрочем, я думаю, что не имеет ли самый воздух в Малороссии какого-то особенного свойства, помогающего пищеварению, потому что если бы здесь вздумал кто-нибудь таким образом накушаться, то, без сомнения, вместо постели, очутился бы лежащим на столе.
Добрые старички! Но повествование мое приближается к весьма печальному событию, изменившему навсегда жизнь этого мирного уголка. Событие это покажется тем более разительным, что произошло от самого маловажного случая. Но по странному устройству вещей, всегда ничтожные причины родили великие события и, наоборот, великие предприятия оканчивались ничтожными следствиями. Какой-нибудь завоеватель собирает все силы своего государства, воюет несколько лет, полководцы его прославляются, и наконец всё это оканчивается приобретением клочка земли, на котором негде посеять картофеля; а иногда, напротив, два какие-нибудь колбасника двух городов подерутся между собою за вздор, и ссора объемлет наконец города, потом веси и деревни, а там и целое государство. Но оставим эти рассуждения: они не идут сюда. Притом я не люблю рассуждений, когда они остаются только рассуждениями.
У Пульхерии Ивановны была серенькая кошечка, которая всегда почти лежала, свернувшись клубком, у ее ног. Пульхерия Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцем по ее шейке, которую балованная кошечка вытягивала как можно выше. Нельзя сказать, чтобы Пульхерия Ивановна слишком любила ее, но просто привязалась к ней, привыкши ее всегда видеть. Афанасий Иванович однако ж часто подшучивал над такою привязанностию.
„Я не знаю, Пульхерия Ивановна, что вы такого находите в кошке. На что она? Если бы вы имели собаку, тогда бы другое дело: собаку можно взять на охоту, а кошка на что?“
„Уж молчите, Афанасий Иванович“, говорила Пульхерия Ивановна: „вы любите только говорить и больше ничего. Собака нечистоплотная, собака нагадит, собака перебьет всё, а кошка тихое творение, она никому не сделает зла.“
Впрочем, Афанасию Ивановичу было всё равно, что кошки, что собаки; он для того только говорил так, чтобы немножко подшутить над Пульхерией Ивановной.
За садом находился у них большой лес, который был совершенно пощажен предприимчивым приказчиком, может быть оттого, что стук топора доходил бы до самых ушей Пульхерии Ивановны. Он был глух, запущен, старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей. В этом лесу обитали дикие коты. Лесных диких котов не должно смешивать с теми удальцами, которые бегают по крышам домов. Находясь в городах, они, несмотря на крутой нрав свой, гораздо более цивилизированы, нежели обитатели лесов. Это, напротив того, большею частию народ мрачный и дикий; они всегда ходят тощие, худые, мяукают грубым, необработанным голосом. Они подрываются иногда подземным ходом под самые амбары и крадут сало, являются даже в самой кухне, прыгнувши внезапно в растворенное окно, когда заметят, что повар пошел в бурьян. Вообще никакие благородные чувства им не известны; они живут хищничеством и душат маленьких воробьев в самых их гнездах. Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру под амбаром с кроткою кошечкою Пульхерии Ивановны и наконец подманили ее, как отряд солдат подманивает глупую крестьянку. Пульхерия Ивановна заметила пропажу кошки, послала искать ее, но кошка не находилась. Прошло три дня; Пульхерия Ивановна пожалела, наконец вовсе о ней позабыла. В один день, когда она ревизировала свой огород и возвращалась с вырванными своею рукою зелеными свежими огурцами для Афанасия Ивановича, слух ее был поражен самым жалким мяуканьем. Она, как будто по инстинкту, произнесла: кис, кис! и вдруг из бурьяна вышла ее серенькая кошка, худая, тощая; заметно было, что она несколько уже дней не брала в рот никакой пищи. Пульхерия Ивановна продолжала звать ее, но кошка стояла перед нею, мяукала и не смела подойти близко; видно было, что она очень одичала с того времени. Пульхерия Ивановна пошла вперед, продолжая звать кошку, которая боязливо шла за нею до самого забора. Наконец, увидевши прежние, знакомые места, вошла и в комнату. Пульхерия Ивановна тотчас приказала подать ей молока и мяса и, сидя перед нею, наслаждалась жадностию бедной своей фаворитки, с какою она глотала кусок за куском и хлебала молоко. Серенькая беглянка почти в глазах ее растолстела и ела уже не так жадно. Она протянула руку, чтобы погладить ее, но неблагодарная, видно, уже слишком свыклась с хищными котами, или набралась романических правил, что бедность при любви лучше палат, а коты были голы, как соколы; как бы то ни было, она выпрыгнула в окошко, и никто из дворовых не мог поймать ее.
Задумалась старушка: „Это смерть моя приходила за мною!“ сказала она сама в себе, и ничто не могло ее рассеять. Весь день она была скучна. Напрасно Афанасий Иванович шутил и хотел узнать, отчего она так вдруг загрустила: Пульхерия Ивановна была безответна, или отвечала совершенно не так, чтобы можно было удовлетворить Афанасия Ивановича. На другой день она заметно похудела.
„Что это с вами, Пульхерия Ивановна? Уж не больны ли вы?“
„Нет, я не больна, Афанасий Иванович! Я хочу вам объявить одно особенное происшествие: я знаю, что я этого лета умру: смерть моя уже приходила за мною!“
Уста Афанасия Ивановича как-то болезненно искривились. Он хотел однако ж победить в душе своей грустное чувство и улыбнувшись сказал: „Бог знает, что̀ вы говорите, Пульхерия Ивановна! Вы, верно, вместо декохта, что часто пьете, выпили персиковой.“
„Нет, Афанасий Иванович, я не пила персиковой“, сказала Пульхерия Ивановна.
И Афанасию Ивановичу сделалось жалко, что он так пошутил над Пульхерией Ивановной, и он смотрел на нее, и слеза повисла на его реснице.
„Я прошу вас, Афанасий Иванович, чтобы вы исполнили мою волю“, сказала Пульхерия Ивановна. „Когда я умру, то похороните меня возле церковной ограды. Платье наденьте на меня серенькое, то, что с небольшими цветочками по коричневому полю. Атласного платья, что с малиновыми полосками, не надевайте на меня: мертвой уже не нужно платье. На что оно ей? А вам оно пригодится: из него сошьете себе парадный халат на случай когда приедут гости, то чтобы можно было вам прилично показаться и принять их.“
„Бог знает, что вы говорите, Пульхерия Ивановна!“ говорил Афанасий Иванович: „когда-то еще будет смерть, а вы уже стращаете такими словами.“
„Нет, Афанасий Иванович, я уже знаю, когда моя смерть. Вы однако ж не горюйте за мною: я уже старуха, и довольно пожила, да и вы уже стары, мы скоро увидимся на том свете.“
Но Афанасий Иванович рыдал, как ребенок.
„Грех плакать, Афанасий Иванович! Не грешите и бога не гневите своею печалью. Я не жалею о том, что умираю. Об одном только жалею я (тяжелый вздох прервал на минуту речь ее): я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас, кто присмотрит за вами, когда я умру. Вы как дитя маленькое: нужно, чтобы любило вас то, которое будет ухаживать за вами.“ При этом на лице ее выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, мог ли бы кто-нибудь в то время глядеть на нее равнодушно.
„Смотри мне, Явдоха“, говорила она, обращаясь к ключнице, которую нарочно велела позвать: „когда я умру, чтобы ты глядела за паном, чтобы берегла его, как гла̀за своего, как свое родное дитя. Гляди, чтобы на кухне готовилось то, что он любит. Чтобы белье и платье ты ему подавала всегда чистое; чтобы, когда гости случатся, ты принарядила его прилично, а то пожалуй он иногда выйдет в старом халате, потому что и теперь часто позабывает он, когда бывает праздничный день, а когда будничный. Не своди с него глаз, Явдоха, я буду молиться за тебя на том свете, и бог наградит тебя. Не забывай же, Явдоха, ты уже стара, тебе не долго жить, не набирай греха на душу. Когда же не будешь за ним присматривать, то не будет тебе счастия на свете. Я сама буду просить бога, чтобы не давал тебе благополучной кончины. И сама ты будешь несчастна, и дети твои будут несчастны, и весь род ваш не будет иметь ни в чем благословения божия.“
Бедная старушка! она в то время не думала ни о той великой минуте, которая ее ожидает, ни о душе своей, ни о будущей своей жизни; она думала только о бедном своем спутнике, с которым провела жизнь и которого оставляла сирым и бесприютным. Она с необыкновенною расторопностию распорядила всё таким образом, чтобы после нее Афанасий Иванович не заметил ее отсутствия. Уверенность ее в близкой своей кончине так была сильна, и состояние души ее так было к этому настроено, что действительно чрез несколько дней она слегла в постелю и не могла уже принимать никакой пищи. Афанасий Иванович весь превратился во внимательность и не отходил от ее постели. „Может быть, вы чего-нибудь бы покушали, Пульхерия Ивановна?“ говорил он, с беспокойством смотря в глаза ей. Но Пульхерия Ивановна ничего не говорила. Наконец, после долгого молчания, как-будто хотела она что-то сказать, пошевелила губами - и дыхание ее улетело.
Афанасий Иванович был совершенно поражен. Это так казалось ему дико, что он даже не заплакал. Мутными глазами глядел он на нее, как бы не зная всего значения трупа.
Покойницу положили на стол, одели в то самое платье, которое она сама назначила, сложили ей руки крестом, дали в руки восковую свечу - он на всё это глядел бесчувственно. Множество народа всякого звания наполнило двор, множество гостей приехало на похороны, длинные столы расставлены были по двору, кутья, наливки, пироги лежали кучами, гости говорили, плакали, глядели на покойницу, рассуждали о ее качествах, смотрели на него; но он сам на всё это глядел странно. Покойницу понесли наконец, народ повалил следом, и он пошел за нею; священники были в полном облачении, солнце светило, грудные ребенки плакали на руках матерей, жаворонки пели, дети в рубашенках бегали и резвились по дороге. Наконец гроб поставили над ямой, ему велели подойти и поцеловать в последний раз покойницу: он подошел, поцеловал, на глазах его показались слезы, но какие-то бесчувственные слезы. Гроб опустили, священник взял заступ и первый бросил горсть земли, густой протяжный хор дьячка и двух понамарей пропел вечную память под чистым безоблачным небом, работники принялись за заступы, и земля уже покрыла и сравняла яму, - в это время он пробрался вперед; все расступились, дали ему место, желая знать его намерение. Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал: „Так вот это вы уже и погребли ее! зачем?!.. “ Он остановился и не докончил своей речи.
Но когда возвратился он домой, когда увидел, что пусто в его комнате, что даже стул, на котором сидела Пульхерия Ивановна, был вынесен - он рыдал, рыдал сильно, рыдал неутешно, и слезы, как река, лились из его тусклых очей.
Пять лет прошло с того времени. Какого горя не уносит время? Какая страсть уцелеет в неровной битве с ним? Я знал одного человека в цвете юных еще сил, исполненного истинного благородства и достоинств, я знал его влюбленным нежно, страстно, бешено, дерзко, скромно, и при мне, при моих глазах почти, предмет его страсти - нежная, прекрасная, как ангел - была поражена ненасытною смертию. Я никогда не видал таких ужасных порывов душевного страдания, такой бешеной палящей тоски, такого пожирающего отчаяния, какие волновали несчастного любовника. Я никогда не думал, чтобы мог человек создать для себя такой ад, в котором ни тени, ни образа и ничего, что бы сколько-нибудь походило на надежду… Его старались не выпускать с глаз; от него спрятали все орудия, которыми бы он мог умертвить себя. Две недели спустя, он вдруг победил себя: начал смеяться, шутить; ему дали свободу и первое, на что он употребил ее, это было - купить пистолет. В один день внезапно раздавшийся выстрел перепугал ужасно его родных. Они вбежали в его комнату и увидели его распростертого с раздробленным черепом. Врач, случившийся тогда, об искусстве которого гремела всеобщая молва, увидел в нем признаки существования, нашел рану не совсем смертельною, и он, к изумлению всех, был вылечен. Присмотр за ним увеличили еще более. Даже за столом не клали возле его ножа и старались удалить всё, чем бы мог он себя ударить; но он в скором времени нашел новый случай и бросился под колеса проезжавшего экипажа. Ему растрощило руку и ногу; но он опять был вылечен. Год после этого я видел его в одном многолюдном зале: он сидел за столом, весело говорил: петит-уверт, закрывши одну карту, и за ним стояла, облокотившись на спинку его стула, молоденькая жена его, перебирая его марки.
По истечении сказанных пяти лет после смерти Пульхерии Ивановны, я, будучи в тех местах, заехал в хуторок Афанасия Ивановича навестить моего старинного соседа, у которого когда-то приятно проводил день и всегда объедался лучшими изделиями радушной хозяйки. Когда я подъехал ко двору, дом мне показался вдвое старее, крестьянские избы совсем легли на-бок, без сомнения, так же, как и владельцы их; частокол и плетень в дворе были совсем разрушены, и я видел сам, как кухарка выдергивала из него палки для затопки печи, тогда как ей нужно было сделать два шага лишних, чтобы достать тут же наваленного хвороста. Я с грустью подъехал к крыльцу, те же самые барбосы и бровки, уже слепые, или с перебитыми ногами, залаяли, поднявши вверх свои волнистые, обвешанные репейниками, хвосты. Навстречу вышел старик. Так это он! я тотчас же узнал его; но он согнулся уже вдвое против прежнего. Он узнал меня и приветствовал с тою же знакомою мне улыбкою. Я вошел за ним в комнаты; казалось, всё было в них попрежнему; но я заметил во всем какой-то странный беспорядок, какое-то ощутительное отсутствие чего-то; словом, я ощутил в себе те странные чувства, которые одолевают нами, когда мы вступаем первый раз в жилище вдовца, которого прежде знали нераздельным с подругою, сопровождавшею его всю жизнь. Чувства эти бывают похожи тогда, когда видим перед собою того человека, которого всегда знали здоровым, без ноги. Во всем видно было отсутствие заботливой Пульхерии Ивановны: за столом подали один нож без колодочки; блюда уже не были приготовлены с таким искусством. О хозяйстве я не хотел и спросить, боялся даже и взглянуть на хозяйственные заведения.
Когда мы сели за стол, девка завязала Афанасия Ивановича салфеткою, и очень хорошо сделала, потому что без того он бы весь халат свой запачкал соусом. Я старался его чем-нибудь занять и рассказывал ему разные новости, он слушал с тою же улыбкою, но по временам взгляд его был совершенно бесчувствен, и мысли в нем не разбродились, но исчезали. Часто поднимал он ложку с кашею, вместо того, чтобы подносить ко рту, подносил к носу, вилку свою, вместо того, чтобы вонзить в кусок цыпленка, он тыкал в графин, и тогда девка, взявши его за руку, наводила на цыпленка. Мы иногда ожидали по несколько минут следующего блюда. Афанасий Иванович уже сам замечал это и говорил: „Что это так долго не несут кушанья?“ Но я видел сквозь щель в дверях, что мальчик, разносивший нам блюда, вовсе не думал о том и спал, свесивши голову на скамью.
„Вот это то кушанье“, сказал Афанасий Иванович, когда, подали нам мнишки со-сметаною, „это то кушанье“, продолжал он, и я заметил, что голос его начал дрожать и слеза готовилась выглянуть из его свинцовых глаз, но он собирал все усилия, желая удержать ее. „Это то кушанье, которое по… по… покой… покойни…“ и вдруг брызнул слезами. Рука его упала на тарелку, тарелка опрокинулась, полетела и разбилась, соус залил его всего; он сидел бесчувственно, бесчувственно держал ложку, и слезы, как ручей, как немолчно точущий фонтан, лились, лились ливмя на застилавшую его салфетку.
Боже! думал я, глядя на него: пять лет всеистребляющего времени - старик уже бесчувственный, старик, которого жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное ощущение души, которого вся жизнь, казалось, состояла только из сидения на высоком стуле, из ядения сушеных рыбок и груш, из добродушных рассказов - и такая долгая, такая жаркая печаль? Что же сильнее над нами: страсть или привычка? Или все сильные порывы, весь вихорь наших желаний и кипящих страстей - есть только следствие нашего яркого возраста, и по тому одному только кажутся глубоки и сокрушительны? Что бы ни было, но в это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной, почти бесчувственной привычки. Несколько раз силился он выговорить имя покойницы, но на половине слова спокойное и обыкновенное лицо его судорожно исковеркивалось, и плач дитяти поражал меня в самое сердце. Нет, это не те слезы, на которые обыкновенно так щедры старички, представляющие вам жалкое свое положение и несчастия: это были также не те слезы, которые они роняют за стаканом пуншу; нет! это были слезы, которые текли, не спрашиваясь, сами собою, накопляясь от едкости боли уже охладевшего сердца.
Он не долго после того жил. Я недавно услышал об его смерти. Странно однако же то, что обстоятельства кончины его имели какое-то сходство с кончиною Пульхерии Ивановны. В один день Афанасий Иванович решился немного пройтись по саду. Когда он медленно шел по дорожке с обыкновенною своею беспечностию, вовсе не имея никакой мысли, с ним случилось странное происшествие. Он вдруг услышал, что позади его произнес кто-то довольно явственным голосом: Афанасий Иванович! Он оборотился, но никого совершенно не было, посмотрел во все стороны, заглянул в кусты - нигде никого. День был тих, и солнце сияло. Он на минуту задумался; лицо его как-то оживилось, и он, наконец, произнес: „Это Пульхерия Ивановна зовет меня!“ Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдимы объясняют так: что душа стосковалась за человеком и призывает его; после которого следует неминуемо смерть. Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве я часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился, тишина была мертвая, даже кузнечик в это время переставал, ни души в саду; но, признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем адом стихий, настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины, среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада, и тогда только успокоивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню.
Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его; он покорился с волею послушного ребенка, сохнул, кашлял, таял, как свечка, и наконец угас так, как она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать бедное ее пламя. „Положите меня возле Пульхерии Ивановны“, вот всё, что произнес он перед своею кончиною.
Желание его исполнили и похоронили возле церкви, близ могилы Пульхерии Ивановны. Гостей было меньше на похоронах, но простого народа и нищих было такое же множество. Домик барский уже сделался вовсе пуст. Предприимчивый приказчик вместе с войтом перетащили в свои избы все остававшиеся старинные вещи и рухлядь, которую не могла утащить ключница. Скоро приехал, неизвестно откуда, какой-то дальний родственник, наследник имения, служивший прежде поручиком, не помню в каком полку, страшный реформатор. Он увидел тотчас величайшее расстройство и упущение в хозяйственных делах; всё это решился он непременно искоренить, исправить и ввести во всем порядок. Накупил шесть прекрасных английских серпов, приколотил к каждой избе особенный номер, и наконец так хорошо распорядился, что имение через шесть месяцев взято было в опеку. Мудрая опека (из одного бывшего заседателя и какого-то штабс-капитана в полинялом мундире) перевела в непродолжительное время все куры и яйцы. Избы, почти совсем лежавшие на земле, развалились вовсе; мужики распьянствовались и стали большею частию числиться в бегах. Сам же настоящий владетель, который, впрочем, жил довольно мирно с своею опекою и пил вместе с нею пунш, приезжал очень редко в свою деревню и проживал не долго. Он до сих пор ездит по всем ярмаркам в Малороссии; тщательно осведомляется и применивается к ценам на разные большие произведения, продающиеся оптом, как-то: муку, пеньку, мед и прочее, но покупает только небольшие безделушки, как-то: кремешки, гвоздь прочищать трубку и вообще всё то, что не превышает всем оптом своим цены одного рубля.
Старики Афанасий Иванович Товстогуб и жена его Пульхерия Ивановна живут уединённо в одной из отдалённых деревень, называемых в Малороссии старосветскими. Жизнь их так тиха, что гостю, заехавшему ненароком в низенький барский домик, утопающий в зелени сада, страсти и тревожные волнения внешнего мира кажутся не существующими вовсе. Маленькие комнаты домика заставлены всевозможными вещицами, двери поют на разные лады, кладовые заполнены припасами, приготовлением которых беспрестанно заняты дворовые под управлением Пульхерии Ивановны. Несмотря на то что хозяйство обкрадывается приказчиком и лакеями, благословенная земля производит всего в таком количестве, что Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна совсем не замечают хищений.
Старики никогда не имели детей, и вся привязанность их сосредоточилась на них же самих. Нельзя глядеть без участия на их взаимную любовь, когда с необыкновенной заботой в голосе обращаются они друг к другу на «вы», предупреждая каждое желание и даже ещё не сказанное ласковое слово. Они любят угощать - и если бы не особенные свойства малороссийского воздуха, помогающего пищеварению, то гость, без сомнения, после обеда оказался бы вместо постели лежащим на столе. Любят старики покушать и сами - и с самого раннего утра до позднего вечера можно слышать, как Пульхерия Ивановна угадывает желания своего мужа, ласковым голосом предлагая то одно, то другое кушанье. Иногда Афанасий Иванович любит подшучивать над Пульхерией Ивановной и заговорит вдруг о пожаре или о войне, заставляя супругу свою испугаться не на шутку и креститься, чтобы речи мужа никогда не могли сбыться. Но через минуту неприятные мысли забываются, старички решают, что пора закусить, и на столе вдруг появляются скатерть и те кушания, которые выбирает по подсказке супруги Афанасий Иванович. И тихо, покойно, в необыкновенной гармонии двух любящих сердец идут за днями дни.
Печальное событие изменяет навсегда жизнь этого мирного уголка. Любимая кошечка Пульхерии Ивановны, обычно лежавшая у её ног, пропадает в большом лесу за садом, куда её сманивают дикие коты. Через три дня, сбившись с ног в поисках кошечки, Пульхерия Ивановна встречает в огороде свою любимицу, вышедшую с жалким мяуканьем из бурьяна. Пульхерия Ивановна кормит одичавшую и худую беглянку, хочет её погладить, но неблагодарное создание бросается в окно и исчезает навсегда. С этого дня старушка становится задумчива, скучна и объявляет вдруг Афанасию Ивановичу, что это смерть за ней приходила и им уже скоро суждено встретиться на том свете. Единственное, о чем сожалеет старушка, - что некому будет смотреть за её мужем. Она просит ключницу Явдоху ухаживать за Афанасием Ивановичем, грозя всему её роду Божьей карой, если та не исполнит наказа барыни.
Пульхерия Ивановна умирает. На похоронах Афанасий Иванович выглядит странно, будто не понимает всей дикости происшедшего. Когда же возвращается в дом свой и видит, как стало пусто в его комнате, он рыдает сильно и неутешно, и слезы, как река, льются из его тусклых очей.
Пять лет проходит с того времени. Дом ветшает без своей хозяйки, Афанасий Иванович слабеет и вдвое согнут против прежнего. Но тоска его не ослабевает со временем. Во всех предметах, окружающих его, он видит покойницу, силится выговорить её имя, но на половине слова судороги искривляют его лицо, и плач дитяти вырывается из уже охладевающего сердца.
Странно, но обстоятельства смерти Афанасия Ивановича имеют сходство с кончиной его любимой супруги. Когда он медленно идёт по дорожке сада, вдруг слышит, как кто-то позади произносит явственным голосом: «Афанасий Иванович!» На минуту его лицо оживляется, и он говорит: «Это Пульхерия Ивановна зовёт меня!» Этому своему убеждению он покоряется с волей послушного ребёнка. «Положите меня возле Пульхерии Ивановны» - вот все, что произносит он перед своею кончиною. Желание его исполнили. Барский домик опустел, добро растаскано мужиками и окончательно пущено по ветру приехавшим дальним родственником-наследником.
«Старосве́тские поме́щики» - первая повесть Николая Васильевича Гоголя из цикла «Миргород» , написанная в 1835 году .
Герои повести
- Афанасий Иванович Товстогуб
- Пульхерия Ивановна Товстогубиха - его жена
также упоминаются:
- Любимая кошка Пульхерии Ивановны
- Явдоха - ключница
- Ничипор - приказчик
- дворовые девки
- комнатный мальчик кучер
Видео по теме
Сюжет
Афанасий Иванович был высок, ходил всегда в бараньем тулупчике , и практически всегда улыбался. Пульхерия Ивановна почти никогда не смеялась, но «на лице и в глазах её было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторною для её доброго лица». Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна живут уединённо в одной из отдалённых деревень, называемых в Малороссии старосветскими. Жизнь их так тиха, что гостю, заехавшему ненароком в низенький барский домик, утопающий в зелени сада, страсти и тревожные волнения внешнего мира покажутся не существующими вовсе. Маленькие комнаты домика заставлены всевозможными вещицами, двери поют на разные лады, кладовые заполнены припасами, приготовлением которых беспрестанно заняты дворовые под управлением Пульхерии Ивановны. Несмотря на то, что хозяйство обкрадывается приказчиком и лакеями, благословенная земля производит всего в таком количестве, что Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна совсем не замечают хищений.
Старики никогда не имели детей, и вся привязанность их сосредоточилась на них же самих. Нельзя глядеть без участия на их взаимную любовь, когда с необыкновенной заботой в голосе обращаются они друг к другу на «вы», предупреждая каждое желание и даже ещё не сказанное ласковое слово. Они любят угощать - и если бы не особенные свойства малороссийского воздуха, помогающего пищеварению, то гость, без сомнения, после обеда оказался бы вместо постели лежащим на столе. Любят старики покушать и сами - и с самого раннего утра до позднего вечера можно слышать, как Пульхерия Ивановна угадывает желания своего мужа, ласковым голосом предлагая то одно, то другое кушанье.
Печальное событие изменяет навсегда жизнь этого мирного уголка. Любимая кошечка Пульхерии Ивановны, обычно лежавшая у её ног, пропадает в большом лесу за садом, куда её сманивают дикие коты . Через три дня, сбившись с ног в поисках кошечки, Пульхерия Ивановна встречает в огороде свою любимицу, вышедшую с жалким мяуканьем из бурьяна . Пульхерия Ивановна кормит одичавшую и худую беглянку, хочет её погладить, но неблагодарное создание бросается в окно и исчезает навсегда. С этого дня старушка становится задумчива, скучна и объявляет вдруг Афанасию Ивановичу, что это смерть за ней приходила и им уже скоро суждено встретиться на том свете.
Пульхерия Ивановна умирает. На похоронах Афанасий Иванович выглядит странно, будто не понимает всей дикости происшедшего. Когда же возвращается в дом свой и видит, как стало пусто в его комнате, он рыдает сильно и неутешно, и слёзы, как река, льются из его тусклых очей.
Пять лет проходит с того времени. Дом ветшает без своей хозяйки, Афанасий Иванович слабеет и вдвое согнут против прежнего. Но тоска его не ослабевает со временем. Во всех предметах, окружающих его, он видит покойницу, силится выговорить её имя, но на половине слова судороги искривляют его лицо, и плач дитяти вырывается из уже охладевающего сердца.
Странно, но обстоятельства смерти Афанасия Ивановича имеют сходство с кончиной его любимой супруги. Когда он медленно идёт по дорожке сада, вдруг слышит, как кто-то позади произносит явственным голосом: «Афанасий Иванович!» На минуту его лицо оживляется, и он говорит: «Это Пульхерия Ивановна зовёт меня!» Этому своему убеждению он покоряется с волей послушного ребёнка. «Положите меня возле Пульхерии Ивановны» - вот все, что произносит он перед своею кончиною. Желание его исполнили. Барский домик опустел, добро растаскано мужиками и окончательно пущено по ветру приехавшим дальним родственником-наследником.
Экранизации
| Год | Страна | Название | Режиссёр | Афанасий Иванович | Пульхерия Ивановна | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СССР СССР | Миргород и его обитатели | Михаил Ильенко | Фёдор Шмаков | Роза Макагонова | В фильме использованы произведения Гоголя «Старосветские помещики» , « |
О чём эта книга?
Престарелые малороссийские помещики, муж и жена Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна Товстогубы, живут душа в душу и ведут хлебосольное хозяйство. Дурная примета пугает Пульхерию Ивановну, и она умирает — идиллии приходит конец, муж ненадолго переживает свою подругу. Самая трогательная повесть Гоголя открывает цикл «Миргород», сразу задавая ему двойственный тон и напоминая о блаженной Аркадии, в которую, увы, тоже проникла смерть.
Николай Гоголь. 1834 год. Литография Алексея Венецианова
Когда она написана?
В 1832 году Гоголь после пятилетнего отсутствия посетил свою родину — село Васильевка Родовое имение Гоголя было основано в конце XVIII века на хуторе Купчинском. Хутор переименовали в Васильевку, по имени отца Гоголя — Василия Афанасьевича. Сегодня родовое имение стало музеем-заповедником Гоголя, а само село получило название Гоголево Миргородского уезда Полтавской губернии. Впечатления от этой поездки легли в основу «Старосветских помещиков», над которыми писатель работает, по-видимому, в конце 1833-го — начале 1834 года (более точная датировка затруднительна). Тогда же он занимается историческими исследованиями, которые превратятся в статью «Взгляд на составление Малороссии», — по плану Гоголя, она должна была стать только вступлением к большой «Истории Малороссии», но тем дело и кончилось: уже весной 1834-го писатель охладел к этому замыслу и сосредоточился на «Миргороде». К этому времени Гоголь — преподаватель истории в женском Патриотическом институте Институт был учреждён в Санкт-Петербурге в 1822 году. Он был основан на базе училища для девочек-сирот, которым ведало Санкт-Петербургское женское патриотическое общество. Находился под покровительством императрицы Елизаветы Алексеевны, а затем — императрицы Александры Фёдоровны, жены Николая I. После революции Патриотический институт был закрыт, на его месте расположился Энергетический техникум. В 2006 году здание было передано Высшей школе экономики. и успешный автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки»; читатели интересуются, не напишет ли он новую часть «Вечеров», но Гоголь отказался от этого «вполне сознательно, отнесясь к этой книге как к пройденному этапу» 1 Эйхенбаум Б. М. Комментарии // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. Т. 2. Миргород / Ред. В. В. Гиппиус. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. С. 683. . Несмотря на то что подзаголовком «Миргорода» станет «Повести, служащие продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки», второй сборник Гоголь отделял от первого — как более «бытовой», более разнообразный в жанровом отношении, просто более зрелый.
Дом доктора Трохимовского в Сорочинцах, где родился Гоголь. Из альбома художественных фототипий и гелиогравюр «Гоголь на родине». 1902 год
Яновщина (Васильевка). Часть села, смежная с усадьбой Николая Гоголя. Из альбома художественных фототипий и гелиогравюр «Гоголь на родине». 1902 год
Как она написана?
«Старосветские помещики» — вариация Гоголя на тему идиллии: жанра, в котором главное — описание безмятежной и патриархальной жизни. Соответственно, повесть полна идеализации: всё хозяйство старосветских помещиков исполнено «неизъяснимой прелести», даже если речь идёт о вещах совершенно будничных и даже «низких». Например, «Старосветские помещики» — самый пространный и поэтичный из гоголевских гимнов еде. Вместе с тем в повести очень много иронии — причём она больше связана не с героями повести, а с литературой, правила которой Гоголь расшатывает: например, кошка, убежавшая от Пульхерии Ивановны к диким лесным котам, «набралась романических правил, что бедность при любви лучше палат». Такие комментарии — зримые знаки присутствия в повести рассказчика: с одной стороны, «своего человека», доброго знакомого Товстогубов, с другой — представителя внешнего мира. В результате «Старосветские помещики» — это и поэтизация пасторального быта, и констатация его неизбежной гибели.
Владимир Орловский. Вид на Украине. 1883 год. Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
Что на неё повлияло?
Прежде всего — непосредственные малороссийские впечатления и воспоминания. В частности, возможными прототипами героев повести называли деда и бабку Гоголя и кого-то из его знакомых миргородских стариков — семейство Зарудных или семейство Бровковых 2 Эйхенбаум Б. М. Комментарии // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. Т. 2. Миргород / Ред. В. В. Гиппиус. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. С. 698. . Историю о кошке, напугавшей Пульхерию Ивановну, Гоголь взял из рассказа своего друга — великого актёра Михаила Щепкина : подобный случай произошёл с его бабкой. Щепкин, прочитав повесть, шутя сказал Гоголю: «А кошка-то моя!» — на что Гоголь отвечал: «Зато коты мои!» (он имел в виду диких лесных котов, к которым в повести убежала помещичья кошка). Разорение имения Товстогубов — отголосок гоголевской поездки в Васильевку: «Признаюсь, мне очень грустно было смотреть на расстроенное имение моей матери».
Важнейший литературный претекст «Старосветских помещиков» — миф о Филемоне и Бавкиде, рассказанный Овидием в «Метаморфозах»; возможно, Гоголь учитывает и трактовку этого мифа в «Фаусте» Гёте. Идиллический настрой, которым проникнута повесть, — дань сентиментализму, в том числе прозе Карамзина. Исследователь Александр Карпов отмечает ещё один пласт претекстов — произведения о «загробной любви», «любви после смерти», такие как баллады Жуковского, повести Михаила Погодина «Адель» и Николая Полевого Николай Алексеевич Полевой (1796-1846) — литературный критик, издатель, писатель. С 1825 по 1834 год издавал журнал «Московский телеграф», после закрытия журнала властями политические взгляды Полевого стали заметно консервативнее. С 1841 года издавал журнал «Русский вестник». «Блаженство безумия», Егора Аладьина Егор Васильевич Аладьин (1796-1860) — прозаик, поэт, переводчик, издатель. Участник Отечественной войны 1812 года. Выпустил несколько книг прозы, сотрудничал с «Отечественными записками». В 1825-1833 и 1846-1847 годах издавал один из самых популярных российских альманахов — «Невский альманах», где печатались Николай Полевой, Вяземский, Бестужев-Марлинский, Булгарин и другие. Аладьин долго пытался заполучить в своё издание Пушкина, тот поначалу отсылал ему незначительные экспромты, но потом согласился сотрудничать за высокий гонорар: в «Невском альманахе» появились отрывки из «Бахчисарайского фонтана», «Бориса Годунова», «Евгения Онегина» (с последней публикацией связан известный казус: издатель сопроводил письмо Татьяны к Онегину эротической иллюстрацией Александра Нотбека, на которую Пушкин откликнулся злой эпиграммой). В 1829-1830 годах Аладьин совместно с Орестом Сомовым и Антоном Дельвигом издавал также альманах «Подснежник». «Брак по смерти» 3 Карпов А. А. «Афанасий и Пульхерия» — повесть о любви и смерти // Феномен Гоголя: Материалы Юбилейной междунар. науч. конф., посв. 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя / Под ред. М. Н. Виролайнен и А. А. Карпова. СПб.: Петрополис, 2011. С. 151-152. . Все эти произведения — подчёркнуто романтические, но отношения «Старосветских помещиков» с романтической литературой можно охарактеризовать как мягкое ироническое снижение. К примеру, когда мы читаем, что овдовевший Афанасий Иванович «часто поднимал… ложку с кашею [и] вместо того, чтобы подносить ко рту, подносил к носу», то вспоминаем поведение потерявшего Марию хана Гирея из «Бахчисарайского фонтана» Пушкина: «Он часто в сечах роковых / Подъемлет саблю, и с размаха / Недвижим остаётся вдруг, / Глядит с безумием вокруг…» 4 Карпов А. А. «Афанасий и Пульхерия» — повесть о любви и смерти // Феномен Гоголя: Материалы Юбилейной междунар. науч. конф., посв. 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя / Под ред. М. Н. Виролайнен и А. А. Карпова. СПб.: Петрополис, 2011. С. 163-164. Это место казалось неуместно комичным критикам Пушкина и наверняка поэтому было памятно Гоголю — снижая пушкинский пафос, он связал рассеянность вдовца и с его былой удалью (Афанасий Иванович, чтобы попугать жену, любил говорить, что пойдёт на войну).
Повесть вышла в сборнике «Миргород» в конце февраля 1835 года. Почти одновременно с «Миргородом» вышел сборник «Арабески», куда вошли исторические, литературоведческие и искусствоведческие статьи, начало неоконченного романа «Гетьман» и три повести из цикла, который впоследствии назовут «Петербургскими повестями»: «Портрет», «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего». Эта двойная публикация резко изменила представление о Гоголе читателей, до этого знавших лишь «Вечера на хуторе близ Диканьки», и создала ему, по сути, новую репутацию. В переизданиях «Миргорода» 1842 и (посмертно) 1855 годов в повесть были внесены незначительные авторские поправки (при этом «Вия» Гоголь серьёзно правил, а «Тараса Бульбу» переработал почти полностью).
Сборник повестей «Миргород». 1835 год
Как её приняли?
Повести «Миргорода» были приняты по-разному: если «Иван Иванович и Иван Никифорович» вызвал нарекания в «грязи» и приземлённости, то «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба» понравились почти «совершенно всем вкусам и всем различным темпераментам» (как сам Гоголь написал Жуковскому). Как раз в это время в русской критике шёл горячий спор о том, что следует понимать под народностью в литературе. О «Старосветских помещиках» одобрительно писали консерваторы Сенковский Осип-Юлиан Иванович Сенковский (1800-1850) — писатель, редактор, востоковед. В юности совершил путешествие по Сирии, Египту и Турции, издал о нём путевые очерки. По возвращении устроился переводчиком в Иностранную коллегию. С 1828 по 1833 год служил цензором. Сенковский основал один из первых массовых журналов — «Библиотека для чтения», редактировал его более десяти лет. Писал рассказы и публицистику под псевдонимом Барон Брамбеус. и Шевырёв Степан Петрович Шевырёв (1806-1864) — литературный критик, поэт. Участвовал в кружке «любомудров», издании журнала «Московский вестник», был близким другом Гоголя. С 1835 по 1837 год был критиком «Московского наблюдателя». Вместе с Михаилом Погодиным издавал журнал «Москвитянин». Шевырёв был известен своими консервативными взглядами, именно он считается автором фразы «загнивающий Запад». В 1857 году между ним и графом Василием Бобринским из-за политических разногласий произошла ссора, закончившаяся дракой. Из-за этого инцидента Шевырёва уволили со службы и выслали из Москвы. . Пушкин, отзываясь в 1836-м на второе издание «Вечеров на хуторе…», писал о новых произведениях Гоголя: «…С жадностию все прочли… «Старосветских помещиков», эту шутливую, трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слёзы грусти и умиления…» Николай Станкевич Николай Владимирович Станкевич (1813-1840) — публицист, поэт, мыслитель. В 1830-е годы Станкевич, студент Московского университета, собрал вокруг себя группу единомышленников, с которыми обсуждал вопросы немецкой философии. Среди участников «кружка Станкевича» были Виссарион Белинский, Алексей Кольцов, Иван Тургенев, Константин Аксаков, Михаил Бакунин. Станкевич — автор нескольких стихов и трагедии «Василий Шуйский», он планировал написать свой учебник всемирной истории, но умер от чахотки в возрасте 26 лет. восхищался: «Как здесь схвачено прекрасное чувство человеческое в пустой, ничтожной жизни!», Михаил Погодин Михаил Петрович Погодин (1800-1875) — историк, прозаик, издатель журнала «Москвитянин». Погодин родился в крестьянской семье, а к середине XIX века стал настолько влиятельной фигурой, что давал советы императору Николаю I. Погодина считали центром литературной Москвы, он издал альманах «Урания», в котором публиковал стихи Пушкина, Баратынского, Вяземского, Тютчева, в его «Москвитянине» печатались Гоголь, Жуковский, Островский. Издатель разделял взгляды славянофилов, развивал идеи панславизма, был близок философскому кружку любомудров. Погодин профессионально изучал историю Древней Руси, отстаивал концепцию, согласно которой основы русской государственности заложили скандинавы. Собрал ценную коллекцию древнерусских документов, которую потом выкупило государство. называл повесть «прекрасной идиллией и элегией». Самый известный и авторитетный отзыв принадлежит Белинскому: в статье «О русской повести и о повестях Гоголя», напечатанной в двух номерах «Телескопа», он настаивал и на народности писателя, и на том, что он не просто юморист. «Старосветским помещикам» в статье посвящён длинный пассаж:
Возьмите его «Старосветских помещиков»: что в них? Две пародии на человечество в продолжение нескольких десятков лет пьют и едят, едят и пьют, а потом, как водится исстари, умирают. Но отчего же это очарование? Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни, животной, уродливой, карикатурной, а между тем принимаете такое участие в персонажах повести, смеётесь над ними, но без злости, и потом рыдаете с Филемоном о его Бавкиде, сострадаете его глубокой, неземной горести и сердитесь на негодяя-наследника, промотавшего состояние двух простаков!
Причину «этого очарования» Белинский видит в том, что Гоголь верно «нашёл человеческое чувство, двигавшее и оживлявшее его героев»: привычку — и отыскал в привычке поэзию (а поскольку привычка так или иначе должна быть знакома читателям, они почувствуют в Товстогубах что-то родственное). Из отзыва Белинского пошла и «социологическая» традиция оценки «Старосветских помещиков» (обличение «животной, уродливой, карикатурной» жизни), которая достигнет высшей точки в раннесоветской критике. Сам Белинский, который никак не мог одобрять «животную жизнь», писал: «О, г. Гоголь истинный чародей, и вы не можете представить, как я сердит на него за то, что он и меня чуть не заставил плакать о них, которые только пили и ели и потом умерли!» Он же с грустной иронией отмечал, что в незначительных диалогах Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны о продавленном стуле и сушёных грушах — «весь человек, вся жизнь его, с её прошедшим, настоящим и будущим».
Виссарион Белинский и Николай Гоголь. Рисунок Бориса Лебедева. 1947 год
После смерти Гоголя «Старосветских помещиков» трактовали в соответствии с критической модой: если дореволюционные критики видели в повести трогательную идиллию, а в Товстогубах — характеры добрых и приближенных к «народу» провинциальных дворян, то для раннесоветских критиков они — «отрицательные» персонажи, воплощающие отсталость, косность, мрачность жизни патриархальной России, торжество помещичьей эксплуатации. Более поздние исследователи возвращаются к жанровой природе повести, вписывают её в контекст мирового романтизма; в 1990-е о «Старосветских помещиках» пишут как о христианской по духу повести, в которой показана праведная, угодная Богу любовь.
«Старосветские помещики» становились предметом литературной рефлексии: так, очень схожие с гоголевскими гастрономически-идиллические мотивы обнаруживаются в романе Гайто Газданова «История одного путешествия» (1935) 5 Александрова Э. К. Старосветские помещики в Париже: «гастрономическая» пародия Гайто Газданова // Русская литература. 2012. № 4. С. 199-206. . В 1998-м драматург Николай Коляда написал пьесу «Старосветские помещики» по мотивам гоголевской повести; третий персонаж этой пьесы — сам Гоголь, Гость, осмысляющий мир Товстогубов, активно участвующий в его жизни и плачущий над ним. (Кроме того, Коляда написал и другие пьесы по мотивам Гоголя: «Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка», «Коробочка» и «Мёртвые души».)
В 1979 году режиссёр Давид Карасик поставил по «Старосветским помещикам» телеспектакль, а в 2008-м по повести был снят короткометражный кукольный мультфильм Марии Муат под названием «Он и она».
Телеспектакль «Старосветские помещики». Режиссёр Давид Карасик. 1979 год. В ролях - Николай Трофимов и Людмила Жукова
Что значит «старосветские»?
«Старосветские» означает, собственно, «принадлежащие к «старому свету» — патриархальному, не тронутому пагубой цивилизации, блюдущему заповеданные предками законы гостеприимства. Лица добрых «стариков и старушек», всегда радушно принимающих гостя, рассказчику отрадно вспомнить «в шуме и толпе среди модных фраков»: эти модные петербургские фраки — «новый свет», где человек человеку волк. Для «старого света» характерно желание оставаться на своём месте: Товстогубы — представители одной из «национальных, простосердечных и вместе богатых фамилий, всегда составляющих противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю копейку с своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают наконец капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на о , слог въ ». Гоголь здесь обличает не украинское происхождение новых петербуржцев, а как раз их стремление оторваться от корней.
Корни же эти — не просто провинциальные, но и сельские: помещики связаны с землёй (что ощутимо в английском переводе названия повести — «The Old World Landowners»). В начале повести Гоголь даёт развернутую экспозицию типичного «старосветского» хозяйства:
Я отсюда вижу низенький домик с галереею из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущею вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождём. За ним душистая черёмуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишень и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом; развесистый клён, в тени которого разостлан для отдыха ковёр; перед домом просторный двор с низенькою свежею травкою, с протоптанною дорожкою от амбара до кухни и от кухни до барских покоев; длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами; частокол, обвешанный связками сушёных груш и яблок и проветривающимися коврами, воз с дынями, стоящий возле амбара, отпряжённый вол, лениво лежащий возле него, — всё это для меня имеет неизъяснимую прелесть, может быть, оттого, что я уже не вижу их и что нам мило всё то, с чем мы в разлуке.
«Старосветскость» подчёркивается и теми портретами, которые висят на стене у Товстогубов: Пётр III, герцогиня Лавальер Луиза-Франсуаза де ла Бом Ле Блан (1644-1710) — фаворитка Людовика XIV, монахиня. В юности стала фрейлиной герцогини Орлеанской, познакомилась с королём Людовиком XIV, стала его фавориткой и родила от него четырёх детей. Вскоре у короля появилась ещё одна возлюбленная — маркиза де Монтеспан. В 1675 году герцогиня ушла в монастырь и прожила там до конца жизни. Центральная героиня романа Александра Дюма «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя». и «какой-то архиерей». Первые два образа, относящиеся к «великому» и «галантному» векам, отсылают к давно прошедшей молодости героев, третий — скорее к патриархальности и «вечному покою».
Луиза-Франсуаза де ла Бом Ле Блан (герцогиня де Лавальер). Иллюстрация из книги «Луиза де Лавальер и ранние годы жизни Людовика XIV». 1908 год. Портрет фаворитки короля висит в доме у Товстогубов
Неизвестный художник. Портрет великого князя Петра Фёдоровича. Середина XVIII века. Автор оригинала - Фёдор Рокотов. Государственный Эрмитаж. Портрет Петра III тоже находится в доме у Товстогубов
Какое место «Старосветские помещики» занимают в «Миргороде»?
Общее место гоголеведения — контрастная композиция «Миргорода» как единого сборника. «Миргород» разделён на две части: в первой объединены «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба», во второй — «Вий» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Сентиментальная идиллия соседствует с патриотической героикой, «готический» ужас — с сатирой. Существуют разные трактовки этих сопоставлений — от «вульгарно-социологической» (советский гоголевед Николай Степанов Николай Леонидович Степанов (1902-1972) — литературовед. Работал в Институте мировой литературы имени Горького, преподавал в Московском педагогическом институте. Был специалистом по литературе XVIII, XIX веков и советской поэзии. Под редакцией Степанова выпускались собрания сочинений Ивана Крылова (по крыловским басням Степанов защитил диссертацию), Велимира Хлебникова, Николая Гоголя. Степанов написал несколько книг о Гоголе («Гоголь. Творческий путь», «Искусство Гоголя-драматурга») и биографию писателя в серии ЖЗЛ. заявлял о «мелких стяжателях», которым в «Тарасе Бульбе» противостоит «сфера народной жизни»; другой исследователь, Александр Докусов, писал, что старосветские помещики «принадлежат миру зла») до сугубо литературоведческой, жанровой: сопоставляя столь несхожие тексты, Гоголь пробует собственные возможности и расширяет границы русской прозы.
Но, помимо контрастов, в «Миргороде» важны переклички между повестями, опять же по-разному трактующие те или иные мотивы и темы. Особое внимание стоит обратить на соседство «Старосветских помещиков» и «Тараса Бульбы». Александр Герцен писал, что Тараса Бульбу и Афанасия Ивановича объединяют одни и те же черты: простодушие и грациозность 6 Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // Герцен А. И. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. С. 228. . Это наблюдение можно соотнести с античным подтекстом всего «Миргорода»: старички Товстогубы так же напоминают о буколических крестьянах, как Бульба — о греческих и римских героях. Многое в «Помещиках» перекликается с «Тарасом Бульбой»: к примеру, Афанасий Иванович пугает жену шутливым намерением идти на войну, а Бульба (точно так же напугав жену) на войну уходит.
С «Вием» «Помещиков» роднит демонологический мотив: тот самый зов ниоткуда, который, по поверью «простого народа», предвещает скорую смерть, — это предзнаменование и гораздо более масштабных, физически проявленных ужасов повести о Хоме Бруте и мёртвой панночке. Наконец, идиллическое начало «Старосветских помещиков» контрастирует не только с их же финалом, где показан упадок старосветского хозяйства, но и с финалом последней повести сборника — «Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича» 7 Есаулов И. А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения («Миргород» Н. В. Гоголя). М.: РГГУ, 1995. C. 8. . Вместо радости и изобилия малороссийского лета — «дурное время» осени: «Опять то же поле, местами изрытое, чёрное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. — Скучно на этом свете, господа!» В последней повести «Миргорода» Гоголь окончательно разрушает тот мир, который любовно создал в «Старосветских помещиках», а до этого — в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Соблазнительно в связи с этим предположить (как это делает исследователь Владимир Денисов 8 Денисов В. Д. Граду и миру: о сборнике Н. В. Гоголя «Миргород» (1835) // Культура и текст. 2014. № 4. С. 14-34. ), что название «Миргород» — не только конкретный топоним, но и отсылка к известной католической формуле urbi et orbi («городу и миру»); что Миргород — это мир-город, в котором есть место разным людям и способам жить и который имеет свои начало и конец.
Девушки с Полтавщины в праздничных нарядах. Фотография Самуила Дудина. 1894 год
В доме. Херсонская губерния, Елисаветградский уезд. Фотография Самуила Дудина. 1894 год
Как в «Старосветских помещиках» обыгран миф о Филемоне и Бавкиде?
«Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их. Афанасию Ивановичу было шестьдесят лет, Пульхерии Ивановне пятьдесят пять», — пишет Гоголь. Источник мифа о Филемоне и Бавкиде — «Метаморфозы» Овидия. До Гоголя к этому сюжету обращались, в частности, русские сентименталисты — Николай Карамзин, Михаил Муравьёв, Иван Дмитриев (последнему Гоголь писал из Васильевки, что живёт теперь «в деревне, совершенно такой, какая описана незабвенным Карамзиным»).
Согласно Овидию, Филемон и Бавкида жили во фригийском городе Тиана. Нежно любившие друг друга престарелые муж и жена были единственными, кто приютил двух странников — оказалось, что под видом странников скрывались Юпитер и Меркурий. Старики были готовы зарезать ради гостей единственного гуся. Тронутые радушием хозяев, боги утопили все дома в округе, кроме дома Филемона и Бавкиды, — их хижина превратилась в храм Юпитера, а старики попросили у громовержца оставить их при этом храме жрецами и даровать им возможность умереть одновременно. Их желание было исполнено:
Вдруг увидал Филемон: одевается в зелень Бавкида;
пер. С. Шервинского
Видит Бавкида: старик Филемон одевается в зелень.
Похолодевшие их увенчались вершинами лица.
Тихо успели они обменяться приветом. «Прощай же,
Муж мой!» — «Прощай, о жена!» — так вместе сказали, и сразу
Рот им покрыла листва. И теперь обитатель Тианы
Два вам покажет ствола, от единого корня возросших.
«Старосветские помещики» и сходны с этим мифом, и отличны от него. С одной стороны, перед нами любящая и радушная чета (гостеприимство — главная черта Товстогубов). К Овидию, по наблюдению Ивана Есаулова, отсылает и общее отчество супругов Товстогубов (Иванович, Ивановна), напоминающее об общем корне деревьев, в которые превратились Филемон и Бавкида 9 Есаулов И. А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения («Миргород» Н. В. Гоголя). М.: РГГУ, 1995. C. 27. . С другой стороны, Товстогубы, в отличие от бедных Филемона и Бавкиды, зажиточные хозяева, и им не дана блаженная участь одновременной и лёгкой смерти. Возможно, на Гоголя повлияла вторая часть «Фауста» Гёте, вышедшая в 1832 году, незадолго до начала работы Гоголя над «Миргородом». В последнем акте Фауст задумывает, чтобы добиться славы и благодарности человечества, построить огромную плотину, чтобы «любой ценою у пучины / Кусок земли отвоевать» 10 Пер. Б. Пастернака , — но ему мешает стоящая на месте строительства хижина престарелых супругов Филемона и Бавкиды, которые не соглашаются покинуть свой дом. Фауст просит Мефистофеля разобраться с проблемой — в результате Филемон и Бавкида, к ужасу Фауста, погибают. Отголоском этого рационализаторского насилия может быть попытка дальнего родственника Товстогубов навести порядок в их имении после смерти стариков — попытка, закончившаяся, как мы помним, полным крахом имения. Кстати, исследователи усматривают и другую гётеанскую параллель со «Старосветскими помещиками» — поэму «Герман и Доротея» (1797).
В принципе, сочетание малороссийского Эдема с античной культурой в случае Гоголя вполне объяснимо его биографией — учёбой в Нежинской гимназии высших наук, где изучали сочинения древних. Но, так или иначе, указав на овидиевский источник, Гоголь приглушает его влияние. Так, с «благородными», античными именами героев (Афанасий и Пульхерия) соседствует «физиологичная» фамилия Товстогуб. Такой контраст заставляет читателя сделать «усилие, чтобы за «корою земности» различить проявления глубокого чувства, чтобы в Товстогубе увидеть Афанасия, в Товстогубихе — Пульхерию» 11 Карпов А. А. «Афанасий и Пульхерия» — повесть о любви и смерти // Феномен Гоголя: Материалы Юбилейной междунар. науч. конф., посв. 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя / Под ред. М. Н. Виролайнен и А. А. Карпова. СПб.: Петрополис, 2011. С. 159. .
Стоит заметить, что Товстогубы не были первой пожилой парой у Гоголя: в предисловии к «Вечерам на хуторе близ Диканьки» рассказчик — Рудый Панько — рассказывает о себе и «своей старухе», бездетной и гостеприимной чете. Гоголь времён «Вечеров», конечно, естественней соотносил себя с малороссийской идиллией — настолько, что готов был перевоплотиться в её «гения места».
Питер Пауль Рубенс. Юпитер и Меркурий у Филемона и Бавкиды. Около 1620–1625 годов. Венский музей истории искусств
Чем замечателен сад старосветских помещиков?
Самый известный сад в прозе Гоголя — это сад Плюшкина в . Запущенный плюшкинский сад прекрасен, потому что над его созданием равно потрудились природа и искусство. В «Старосветских помещиках» у природы и искусства иные, но тоже симбиотические отношения. С одной стороны, хозяйство деятельной Пульхерии Ивановны было «совершенно похоже на химическую лабораторию» («Под яблонею вечно был разложен огонь, и никогда почти не снимался с железного треножника котёл или медный таз с вареньем, желе, пастилою, деланными на меду, на сахаре и не помню ещё на чём. Под другим деревом кучер вечно перегонял в медном лембике Резервуар для перегонки и очистки водки. водку на персиковые листья, на черёмуховый цвет, на золототысячник, на вишнёвые косточки»); с другой, постоянно обнаруживались недоимки из-за недосмотра или просто воровства — но «благословенная земля производила всего в таком множестве», что хозяйство всегда процветало. Перед нами своего рода модель рая — и важно, что Гоголь, описывая сад Товстогубов, описывает как бы все такие сады, все хозяйства старосветских помещиков вообще: «Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединённой жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осенённые вербами, бузиною и грушами». Позже такие обобщения примет на вооружение натуральная школа, но Гоголь хотел показать не типичное, а идеальное. Здесь будто исчезает время: исследователь Владислав Кривонос отмечает, что рассказчик заходит в сад «на минуту», но минута растягивается очень надолго 12 Кривонос В. Ш. Место и сюжет в «Старосветских помещиках» Гоголя // Отечественная литература как фактор сохранения русской идентичности в глобальном мире: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. Самара, 2017. С. 106. .
Под яблонею вечно был разложен огонь, и никогда почти не снимался с железного треножника котёл или медный таз с вареньем, желе, пастилою, деланными на меду, на сахаре и не помню ещё на чём
Николай Гоголь
Юрий Лотман в работе «Художественное пространство в прозе Гоголя» поясняет, что важнейшее свойство сада старосветских помещиков — его «отгороженность» 13 : это заповедный уголок, каким и должен быть Эдем, земной рай. По замечанию Лотмана, ядро этого мира — дом Товстогубов, окружённый кольцами, «поясами границы»: двориком, частоколом, садом, деревней (внутри дома тоже есть «стражи границ» — знаменитые «поющие» двери). Беда приходит в дом Товстогубов из единственного места, где эта граница разрывается: из дикого леса, который напрямую сообщается с садом, из «дыры под амбаром», через которую в этот лес убегает кошка 14 Виролайнен М. Н. Мир и стиль («Старосветские помещики» Гоголя) // Вопросы литературы. 1979. № 4. С. 125-141; Вайскопф М. Я. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. М.: РГГУ, 2002. С. 347. . В отличие от других товстогубовских лесов, в которых приказчик нещадно рубил деревья ради собственной выгоды, этот лес был «совершенно пощажён предприимчивым приказчиком»: он боялся, что Пульхерия Ивановна услышит стук топора. Парадоксальным образом то, что должно быть нормой (приказчик не рубит хозяйского леса), превращается в аномалию и служит к гибели хозяев (в этом лесу водятся дикие коты, сманившие к себе помещичью кошку). Смерть Пульхерии Ивановны, выполняющей традиционную роль хранительницы домашнего очага 15 Синцова С. В. Гендерная проблематика в повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики» // Вестник Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского. Литературоведение. 2009. № 6. С. 93. , запускает процесс разрушения всего её хозяйства — после смерти Афанасия Ивановича, которому она как будто наказывает последовать за ней, дело довершается очень быстро. Границы рушатся, и сад приходит в запустение: имение захвачено «чужим» миром. Но для своих — то есть для гостей, ради которых жили старосветские помещики, — эти границы были, конечно, проницаемы, а сад напоминал о возможности иной, заповедной жизни.
Владимир Маковский. Варят варенье. 1876 год. Государственная Третьяковская галерея
Почему Товстогубы так много едят?
Еда, ассоциирующаяся с домашним очагом, — едва ли не смысловой центр «Старосветских помещиков». Здесь есть еда повседневная и особая — для гостей, которую представляют, как на параде:
Вот это грибки с чебрецом! это с гвоздиками и волошскими орехами! <…> Вот эти грибки с смородинным листом и мушкатным орехом! А вот это большие травянки: я их ещё в первый раз отваривала в уксусе; не знаю, каковы-то они; я узнала секрет от отца Ивана. В маленькой кадушке прежде всего нужно разостлать дубовые листья и потом посыпать перцем и селитрою и положить ещё что бывает на нечуй-витере цвет, так этот цвет взять и хвостиками разостлать вверх. А вот это пирожки! это пирожки с сыром! это с урдою! а вот это те, которые Афанасий Иванович очень любит, с капустою и гречневою кашею.
По подсчетам Андрея Белого, Афанасий Иванович «принимался за еду девять раз в сутки» 16 Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М.: Coda, 1996. C. 145. . Юрий Манн пишет, что в образах еды здесь «нет никакого агрессивного, хищнического оттенка (ср. пожирание еды Собакевичем). Это почти идиллическое и растительное поглощение, пережёвывание и переваривание» 17 Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М.: Coda, 1996. C. 146. . Он же говорит об «открытости и радушии», которое связано у Товстогубов с едой. Это, разумеется, связано с древнейшими законами гостеприимства: еда отвечает за весь дом старосветских помещиков. Это правило усилено тем, что мир Товстогубов — маленький и замкнутый, поэтому какие-нибудь пирожки с сыром занимают в нём серьёзное место 18 Лотман Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя // Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М.: Просвещение, 1988. С. 251-292. .
Мягкий гоголевский комизм здесь в том, что раблезианские пиры, которые устраивают Товстогубы гостям, их маленькому хозяйству как бы несоразмерны — но у Гоголя тут же находится этому объяснение: хлебосольство увязано с идеей «рая на земле», где всё родится в изобилии. «Впрочем, я думаю, что не имеет ли самый воздух в Малороссии какого-то особенного свойства, помогающего пищеварению, потому что если бы здесь вздумал кто-нибудь таким образом накушаться, то, без сомнения, вместо постели очутился бы лежащим на столе». Напротив, для Товстогубов именно отказ от пищи связан со смертью: настроившись на скорую кончину, Пульхерия Ивановна отказывается от еды. Единственное лечение, которое может предложить ей Афанасий Иванович: «Может быть, вы чего-нибудь бы покушали, Пульхерия Ивановна?» Может быть, стоит вспомнить здесь, что незадолго до смерти Гоголь также отказался принимать пищу. Еда в мире Гоголя — это витальность; голод — смерть. Так оно, собственно, и в жизни, но Гоголь это, как многое, утрирует. Более того, для старосветских помещиков разговор о еде — это своего рода разговор о любви, тот язык, на котором они могут выразить свои чувства. Именно еда — мнишки Оладьи из толчёного картофеля с творогом. со сметаной — для вдовца становится живым напоминанием о покойнице. Современный исследователь усматривает здесь отголосок романтического представления о том, что главное принципиально невыразимо 19 Карпов А. А. «Афанасий и Пульхерия» — повесть о любви и смерти // Феномен Гоголя: Материалы Юбилейной междунар. науч. конф., посв. 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя / Под ред. М. Н. Виролайнен и А. А. Карпова. СПб.: Петрополис, 2011. С. 161-162. .
Пётр Боклевский. Пульхерия Ивановна. Иллюстрация к повести «Старосветские помещики». 1887 год
Ю. А. Порфирьев. Афанасий Иванович. Иллюстрация к повести «Старосветские помещики». 1946 год
На какую войну собирался идти Афанасий Иванович?
По упоминаниям войн можно приблизительно датировать действие «Старосветских помещиков». Оно происходит после 1815 года В 1815 году Наполеон I вновь стал французским императором, но только на сто дней. После проигранной битвы при Ватерлоо он вынужден был второй раз отречься от престола. , вероятно в начале 1820-х — потому что гость рассказывает Афанасию Ивановичу слухи о том, «что француз тайно согласился с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта». (Оставим здесь в стороне и смерть Бонапарта в 1821-м — необязательно, чтобы в Миргородском уезде об этом скоро узнали, и соотношение рассказчика с автором: рассказчик явно старше Гоголя, которому ко времени написания повести 24 года.) При этом 55-летняя Пульхерия Ивановна помнит, как «турки были у нас в плену»: пленная «туркеня», выучившая хозяйку особым образом солить грибы, жила у Товстогубов после Русско-турецкой войны 1787-1791 годов Война между Россией и Священной Римской империей с одной стороны и Османской империей с другой. Османская империя планировала вернуть себе земли, отошедшие России после Русско-турецкой войны 1768-1774 годов, в том числе Крым, однако сделать этого не смогла — новая война закончилась победой России. Османская империя подписала Ясский мирный договор, согласно которому должна была навсегда уступить России Крым и выплатить контрибуцию в размере 7 миллионов рублей. Однако императрица Екатерина II отказалась от денег, сославшись на плохое экономическое состояние противника. — лет за 25 до событий повести. Наконец, Пульхерия Ивановна осматривает свои леса, сидя в дрожках, которые тянут лошади, «служившие ещё в милиции» — то есть «в ополчении, сформиро-ван-ном в России во время русско-прусско-французской войны Война Франции против коалиции из России, Пруссии и Великобритании. Войну начала Пруссия, после того как Наполеон отказался выводить свои войска из немецких земель. Закончилась война заключением Тильзитского мира между Наполеоном и Александром I, по условиям мира, урезалась территория Пруссии, Россия признала все завоевания Франции и присоединилась к континентальной блокаде Англии, а Франция прекратила поддержку Турции в войне с Россией. 1805-1807 годов ввиду угрозы вторжения наполеоновских войск в пределы страны и распущенном вскоре после заключения Тильзитского мира» 20 Гуминский В. М. Гоголь, Александр I и Наполеон // Наш современник. 2002. № 3. С. 216-232. . В милиции служил и Иван Никифорович из другой гоголевской повести — ради этого он и купил «у турчина» ружьё, послужившее причиной раздора между друзьями.
Пульхерия Ивановна для меня была занимательнее всего тогда, когда подводила гостя к закуске
Николай Гоголь
«Предстоящая война», разговорами о которой гость развлекает Афанасия Ивановича, — едва ли какая-то конкретная: после 1814 года Россия больше десяти лет не участвовала в войнах с иностранными державами (если не считать Кавказской войны, начавшейся в 1817-м). Лишь летом 1826-го началась Русско-персидская война Война была начата Персией в 1826 году, чтобы пересмотреть условия мирного договора, заключённого после Русско-персидской войны 1804-1813 годов. Наступление на Россию поддерживала Великобритания. Через два года после ряда военных неудач Персия была вынуждена пойти на мирные переговоры. По итогам войны к России перешла часть Каспийского побережья и Восточная Армения, Персия выплатила контрибуцию в размере 20 миллионов рублей, Россия же после выплаты контрибуции вывела свои войска из Южного Азербайджана. — Персия хотела взять реванш за поражение в предыдущем конфликте Русско-персидская война 1804-1813 годов. Войну начала Персия после присоединения к России Восточной Грузии. Зимой 1806-1807 годов Россия заключила перемирие из-за начатой Русско-турецкой войны, но вскоре военные действия возобновились. Война с Персией закончилась победой России — Россия получила исключительное право держать флот в Каспийском море, Персия признала Восточную Грузию российским владением в 1813 году. В «Старосветских помещиках», судя по всему, перед нами такие же досужие слухи, как и в «Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче»: там Иван Иванович говорит своему другу, что «три короля объявили войну царю нашему» и «хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру» (отголосок многочисленных войн с Османской империей, антинаполеоновской коалиции и создания Священного союза).
«Я сам думаю пойти на войну; почему ж я не могу идти на войну?» — говорит Афанасий Иванович Товстогуб. Он, разумеется, не военнообязанный: после короткой военной карьеры он пользуется привилегиями Манифеста о вольности дворянства Указ Петра III от 1762 года. Согласно ему, дворяне освобождались от обязательной военной и гражданской службы и получали право беспрепятственно выезжать за границу. Во время войны государство могло потребовать от дворянина поступить на службу. Если же в это время он находился за границей, ему следовало тут же вернуться в Россию, в противном случае его владения изымались государством. , дарованными Петром III (тем самым государем, чей портрет висит у старосветских помещиков в доме). Разговоры о войне интересно сочетаются с инфантильностью Афанасия Ивановича, которую Гоголь постоянно подчёркивает. Афанасий Иванович не входит в вопросы хозяйства и целиком зависит от заботы жены, которая кормит его, как заботливая мать 21 Синцова С. В. Гендерная проблематика в повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики» // Вестник Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского. Литературоведение. 2009. № 6. С. 92. . Он слушает гостей с любопытством, которое «несколько похоже на любопытство ребёнка». Пульхерия Ивановна, умирая, говорит: «Вы как дитя маленькое: нужно, чтобы любило вас то, которое будет ухаживать за вами». Афанасий Иванович, напуганный жениным предчувствием, «рыдает, как ребёнок». Услышав зов, как ему кажется, покойной жены, он покоряется собственной смерти «с волею послушного ребёнка». В этом контексте нужно воспринимать и подшучивание мужа над женой, в том числе угрозы пойти на войну: так дети любят пугать родителей, а иногда и говорят всерьёз. Не держал ли Лев Толстой в голове «Старосветских помещиков», когда писал сцену, в которой Петя Ростов впервые заговаривает с родителями о том, что собирается идти воевать?
Архип Куинджи. Вечер на Украине. 1878 год. Государственный Русский музей
Почему Пульхерия Ивановна приняла кошку за смерть?
Любимица Пульхерии Ивановны, балованная серая кошка, сбегает к лесным котам, через три дня возвращается исхудавшей — и, поев, убегает обратно в лес. Это пустяшное происшествие заставляет Пульхерию Ивановну сделать неожиданный вывод: «Это смерть моя приходила за мною!»
В действительности такой случай произошёл с бабкой знаменитого актёра Михаила Щепкина Михаил Семёнович Щепкин (1788-1863) — актёр. Начал карьеру с домашнего крепостного театра, играл в Полтавском театре. В 1822-м получил вольную и в этом же году по приглашению переехал в Москву, где до конца жизни служил в Малом театре. Щепкин играл Фамусова в «Горе от ума», Городничего в «Ревизоре». Специально под него Белинский написал пьесу «Пятидесятилетний дядюшка, или Странная болезнь», а Тургенев — пьесу «Нахлебник». Известный прежде всего по комическим ролям, Щепкин выступал и в трагических амплуа: к примеру, играл Шейлока в «Венецианском купце». Именем Щепкина названо Высшее театральное училище в Москве, одно из главных российских учебных заведений для актёров. , происходившего из крепостных крестьян, — Гоголь позаимствовал у Щепкина этот анекдот. У убеждения Пульхерии Ивановны фольклорные корни. Подобное поверье фиксирует в «Поэтических воззрениях славян на природу» Александр Афанасьев Александр Николаевич Афанасьев (1826-1871) — историк, литературовед, собиратель фольклора. Служил в Московском главном архиве Министерства иностранных дел. Афанасьев собрал собственную библиотеку старинных русских книг и рукописей, публиковал статьи о славянской мифологии в журналах «Современник» и «Отечественные записки». Изданный Афанасьевым сборник «Русские народные легенды» запретила цензура, рассказы из этого сборника, а также «Заветные сказки» эротического содержания Афанасьев переправил за границу. После обыска его уволили из архива. С 1865 по 1869 год Афанасьев выпустил свой главный трёхтомный труд «Поэтические воззрения славян на природу». В последние годы жизни работал над собранием русских сказок. Умер от чахотки. : «Чехи и малорусы рассказывают, что Смерть, принимая вид кошки, царапается в окно, и тот, кто увидит её и впустит в избу, должен умереть в самое короткое время» 22 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. М.: Современный писатель, 1995. Т. 3.C. 55. . Появление кошки — дурная примета и в некоторых других культурах. По замечанию Владимира Топорова Владимир Николаевич Топоров (1928-2005) — лингвист, литературовед. Работал в Институте славяноведения и балканистики. Топоров занимался сравнительно-историческим языкознанием, изучением фольклора, семиотикой (Топоров — один из основателей Тартуско-московской семиотической школы). Ввёл в литературоведение понятие «петербургский текст». Совместно с лингвистом Вячеславом Ивановым разработал теорию «основного мифа» — сюжета борьбы Громовержца со Змеем. Изучал санскрит, язык пали, древнеиндийский эпос. Первым перевёл на русский язык с языка пали «Дхаммападу», собрание изречений Будды. , «в низшей мифологии кот выступает как воплощение (или помощник, член свиты) чёрта, нечистой силы» 23 Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 т. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1992. C. 11. . Отсюда представление о дьявольском начале в чёрных котах: в русской литературе оно полнее всего показано в «Мастере и Маргарите», а Гоголю могло быть знакомо хотя бы из «Золотого горшка» Гофмана; собственно, и в гоголевской «Майской ночи» фигурирует чёрная кошка-ведьма.
Задумалась старушка. «Это смерть моя приходила за мною!» — сказала она сама в себе, и ничто не могло её рассеять
Николай Гоголь
С другой стороны, у христиан, особенно у старообрядцев, кошка — «чистое» животное (в отличие от собаки), о чём и говорит Пульхерия Ивановна: «Собака нечистоплотная, собака нагадит, собака перебьёт всё, а кошка тихое творение, она никому не сделает зла». Но именно это «тихое творение» убегает в соседний лес, где связывается с разбойными лесными котами, которых Гоголь называет «народом мрачным и диким»: перед нами типично гоголевская амбивалентность, вообще говоря, свойственная нечистой силе (здесь можно вспомнить и панночку из «Вия» — прекрасную девушку и отвратительную старую ведьму).
Иван Есаулов, подчёркивающий важность границ в «Старосветских помещиках», отмечает, что беглая кошка попадает в дикий «большой мир» за пределами замкнутого идиллического пространства имения Товстогубов — и, возвращаясь, становится вестником смерти как раз из этого «большого мира» 24 Есаулов И. А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения («Миргород» Н. В. Гоголя). М.: РГГУ, 1995. C. 38. . Ободранное, истощённое животное, дичащаееся хозяйки, — полная противоположность той балованной кошке, которую знала Пульхерия Ивановна: можно предположить, что, соприкоснувшись с диким миром леса (в русской народной культуре лес однозначно трактуется как вход в потусторонний мир), она «заражается» потусторонностью и становится в самом деле носителем смерти. Это вполне в логике синкретического, магического, фольклорного сознания — и то, что Пульхерия Ивановна воспринимает поверье всерьёз, говорит о её принадлежности к патриархальному/пасторальному миру, несмотря на дворянский статус (снова вспомним, что бабка Михаила Щепкина была крепостной).
Напрямую к народному поверью Гоголь отсылает, когда рассказывает о предвестии смерти Афанасия Ивановича, который внезапно услышал, как его зовёт Пульхерия Ивановна:
Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют тем, что душа стосковалась за человеком и призывает его, и после которого следует неминуемо смерть. Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил моё имя.
Отметим, что в двух «бытовых» повестях «Миргорода» — «Старосветских помещиках» и «Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче» — импульсом для развития действия становится зоологический пустяк. Но если ссора из-за слова «гусак» — история откровенно вздорная и (в бахтинском смысле) карнавальная, то в смерти из-за кошки есть что-то очень трогательное, как и во всей повести.
Кошка в ласковом настроении. Гравюра из книги Чарльза Дарвина «Выражение эмоций у человека и животных». 1872 год
Universal History Archive/Getty Images
Почему Афанасий Иванович не проявляет эмоций на похоронах Пульхерии Ивановны?
Смерть Пульхерии Ивановны как бы «выключает» Афанасия Ивановича из мира живых. На похоронах жены он «на всё… глядел бесчувственно», «на всё глядел странно», проливает над гробом «какие-то бесчувственные слёзы», а после погребения произносит: «Так вот это вы уже и погребли её! зачем?!» Эмоции настигают его только по возвращении с похорон: «Но когда возвратился он домой, когда увидел, что пусто в его комнате, что даже стул, на котором сидела Пульхерия Ивановна, был вынесен, — он рыдал, рыдал сильно, рыдал неутешно, и слёзы, как река, лились из его тусклых очей». С тех пор горе его не покидает.
Психолог скажет, что Гоголь точно описывает начальную стадию глубокого горя, поведение человека после катастрофического потрясения. Юрий Манн в «Поэтике Гоголя» пишет, что реакция Афанасия Ивановича должна казаться странной людям посторонним — дальним родственникам и землякам, участвующим «в коллективно-обрядовом действе» похорон, и даже читателям повести 25 Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М.: Coda, 1996. C. 32-36. . В обычной похоронной суете плач смешивается со смехом: «…Длинные столы расставлены были по двору; кутья, наливки, пироги покрывали их кучами; гости говорили, плакали, глядели на покойницу, рассуждали о её качествах… …Солнце светило, грудные ребёнки плакали на руках матерей, жаворонки пели, дети в рубашонках бегали и резвились по дороге». На фоне этих «естественных» и предсказуемых реакций фигура Афанасия Ивановича резко выделяется: это заставляет нас с усиленным вниманием следить за ним — за одним там, где раньше было двое. цивилизации» 26 Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М.: Coda, 1996. C. 147. нужна как раз для того, чтобы оттенить жизнь старосветских помещиков, показать её притягательность и недосягаемость (ведь в конце повести рассказчик наблюдает за разорением имения).
Рассказчик, доверенное лицо своих героев, может выносить им оценки («Пульхерия Ивановна для меня была занимательнее всего тогда, когда подводила гостя к закуске»); он, как добрый сосед, следит за их судьбой (заезжает в гости к вдовцу — и получает тем самым возможность рассказать о его жизни после Пульхерии Ивановны). Вместе с тем этот рассказчик не в полной мере является персонажем: в нём есть и черты «всеведущего автора», способного сообщить читателю, например, подробности частных разговоров супругов. Он остаётся богом повествования. Такая двойственная роль спародирована в современной пьесе Николая Коляды «Старосветские помещики», где Гоголь — полноценный персонаж, но в то же время человек со стороны, которому доступно осмысление всего происходящего. Одновременно вовлечённая и сторонняя позиция позволяет рассказчику привлекать к своему описанию иные, чужие контексты: он сравнивает Товстогубов с Филемоном и Бавкидой, о которых они едва ли когда-нибудь слышали, и вводит вставной рассказ о человеке, который потерял свою возлюбленную, дважды пытался покончить с собой, но потом всё же утешился. Противоположностью этой житейской истории служит «долгая, жаркая печаль» Афанасия Ивановича — и для рассказчика здесь повод задуматься, что же сильнее — страсть или привычка.
Фёдор Моллер. Портрет Николая Гоголя. Начало 1840-х годов. Государственный Русский музей
Что означает упадок имения Товстогубов?
В начале повести «образцовое хозяйство» старосветских помещиков противопоставлено «новому гладенькому строению, которого стен не промыл ещё дождь, крыши не покрыла зелёная плесень, и лишённое щекотурки крыльцо не показывает своих красных кирпичей». У «старосветского» хозяйства и должны быть признаки старины, обветшалости. Романтизм наследует у сентиментализма особое отношение к руинам, которые одновременно напоминают о высоком, недоступном ныне архитектурном идеале и демонстрируют гармоническое сотворчество человека и природы — сотворчество через разрушение. В «Старосветских помещиках» Гоголь с мягкой иронией снижает пафос поэтики руин — и демонстрирует, что такое руины настоящие: после смерти хозяев в их имении можно увидеть только «кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик, — и ничего более». Этот коллапс ускорен попытками, так сказать, механической модернизации: наследник имения, дальний родственник Товстогубов, приколачивает к избам номера и покупает «шесть прекрасных английских серпов» — филолог Иван Есаулов считает 27 Есаулов И. А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения («Миргород» Н. В. Гоголя). М.: РГГУ, 1995. C. 23. неслучайным, что через шесть же месяцев окончательно разорённое имение приходится взять в опеку Система дворянской опеки была создана в 1775 году. Чиновники должны были управлять имуществом дворянских вдов и сирот, находить попечителей для их поместий. Часто имения арестовывались за проступки — имение брали под опеку, если обнаруживалось, что дворянин разоряет свои владения, дурно обращается с крестьянами или демонстрирует безнравственное поведение. .
Интересно, что Гоголь выбирает для имения старосветских помещиков именно такой вариант эсхатологии — говоря словами Элиота, «не взрыв, но всхлип». Вспомним, что Афанасий Иванович любил пошутить над Пульхерией Ивановной, пугая её пожаром. В реальности огонь действительно пожирает их хозяйство — но совсем по-другому: «частокол и плетень в дворе были совсем разрушены, и я видел сам, как кухарка выдергивала из него палки для затопки печи, тогда как ей нужно было сделать два шага лишних, чтобы достать тут же наваленного хвороста». Эдем уничтожен не громкой, скандальной и в чём-то романтической катастрофой, но бытовой энтропией — перед нами манифестация реализма как такового.
Гумбольдту 28 Есаулов И. А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения («Миргород» Н. В. Гоголя). М.: РГГУ, 1995. C. 25, 30. . Повесть Гоголя относили к идиллиям на протяжении всей истории её чтения и изучения, начиная с Пушкина. Она создавалась «в атмосфере полемики по поводу жанра идиллии, начало которой было положено 29 Сурков Е. А. Об идиллическом в «Старосветских помещиках» Н. В. Гоголя // Н. В. Гоголь и славянский мир (русская и украинская рецепции) / Ред. Н. В. Хомук. Томск, 2007. Вып. 1. С. 47-57. выходом книги «Идиллии Владимира Панаева» Владимир Иванович Панаев (1792-1852) — поэт, академик, крупный чиновник (некоторое время под его началом служил Гоголь). Писал по большей части стихотворные идиллии; единственный сборник «Идиллии Владимира Панаева» вышел в 1820 году. Панаев не любил литераторов-романтиков, в том числе Пушкина и Гоголя; они отвечали ему взаимностью. . Об идилличности «Старосветских помещиков» писали такие филологи, как Дмитрий Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич Овсянико-Куликовский (1853-1920) — литературовед, лингвист. Преподавал в Новороссийском, Харьковском, Петербургском и Казанском университетах. С 1913 по 1918 год редактировал журнал «Вестник Европы». Изучал творчество Гоголя, Пушкина, Тургенева, Толстого, Чехова. Самой известной работой Овсянико-Куликовского стала «История русской интеллигенции», вышедшая в 1907 году. Изучал синтаксис русского языка, а также санскрит и индийскую философию. , Виктор Виноградов Виктор Владимирович Виноградов (1895-1969) — лингвист, литературовед. В начале 1920-х изучал историю церковного раскола, в 1930-х занялся литературоведением: писал статьи про Пушкина, Гоголя, Достоевского, Ахматову. С последней его связывала многолетняя дружба. В 1929 году Виноградов переехал в Москву и основал там свою лингвистическую школу. В 1934-м Виноградова репрессировали, но освободили досрочно для подготовки к юбилею Пушкина в 1937 году. В 1958 году Виноградов возглавил Институт русского языка АН СССР. Был экспертом со стороны обвинения в процессе над Синявским и Даниэлем. , Борис Эйхенбаум Борис Михайлович Эйхенбаум (1886-1959) — литературовед, текстолог, один из главных филологов-формалистов. В 1918-м вошёл в кружок ОПОЯЗ наряду с Юрием Тыняновым, Виктором Шкловским, Романом Якобсоном, Осипом Бриком. В 1949 году подвергся гонениям во время сталинской кампании по борьбе с космополитизмом. Автор важнейших работ о Гоголе, Льве Толстом, Лескове, Ахматовой. . В самом деле, идиллический хронотоп «Старосветских помещиков», точно по Гумбольдту, противопоставлен «большому миру»: здесь не знают мировых потрясений, о войне говорят разве что в шутку, не ездят далеко и стараются не вспоминать о том, что когда-то всё было иначе. Здесь много едят — а еда, по Бахтину 30 Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 3. Теория романа. М.: Языки славянский культур, 2012. С. 474. , важная часть идиллического хронотопа Неразрывное единство определённой точки пространства и определённого момента во времени. В литературоведении термин начал использоваться благодаря Михаилу Бахтину. . Здесь не хотят ничего менять, а за то, чтобы эта замкнутая система оставалась гармоничной и жизнеспособной, отвечает сама «благословенная земля», которая родит «всего в таком множестве», что покрывает любые недостатки, сводит на нет мелкие вторжения хаоса.Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил моё имя
Николай Гоголь
Вместе с тем в «Старосветских помещиках» есть важнейшее отличие от классической идиллии: гибель героев и разрушение патриархального быта, с любовью выстроенного в первой части повести. Что демонстрируется таким образом? Что подлинная идиллия сегодня невозможна? Что она не была возможна никогда? Скорее то, что у всего есть свой срок, ничто не избежит «всеистребляющего времени».
В некотором смысле идиллическое чувство, как его трактует Гоголь, противопоставлено чувству романтическому. Это особенно видно по двум моментам. Во-первых, Афанасий Иванович старается не вспоминать, что когда-то сумел ловко увезти Пульхерию Ивановну, которую не хотели отдавать за него замуж: такой романтический поступок несообразен нынешнему его состоянию покоя. Во-вторых, говоря о безутешном горе Афанасия Ивановича, Гоголь вставляет рассказ о молодом человеке, чья возлюбленная неожиданно умерла; он дважды пытался покончить с собой, но в конце концов утешился и счастливо женился. В отличие от этого молодого человека, Афанасий Иванович не в силах пережить свою потерю — что и заставляет рассказчика задуматься:
«Боже! — думал я, глядя на него, — пять лет всеистребляющего времени — старик уже бесчувственный, старик, которого жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное ощущение души, которого вся жизнь, казалось, состояла только из сидения на высоком стуле, из ядения сушёных рыбок и груш, из добродушных рассказов, — и такая долгая, такая жаркая печаль! Что же сильнее над нами: страсть или привычка? Или все сильные порывы, весь вихорь наших желаний и кипящих страстей — есть только следствие нашего яркого возраста и только по тому одному кажутся глубоки и сокрушительны?»
В своём «Неуёмном бубне» Алексей Ремизов замечает, что слово «привычка» здесь — просто замена «большого» слова «любовь», которое Гоголь «постеснялся употребить». Но скорее речь идёт не о стеснении, а о том, что слово «любовь» закреплено за романтизмом, тогда как «привычка» (которая, как напоминает Пушкин, «свыше нам дана» и заменяет счастье) — это именно о ровном, гармоничном, идиллическом чувстве, более близком к христианскому идеалу. Здесь можно вспомнить и представление о том, что вместо «люблю» русские женщины говорят «жалею», и фразу стареющей Лизаветы Александровны из «Обыкновенной истории» Гончарова: «Да, я очень… привыкла к тебе», — Лизавете Александровне хотелось как раз романтической любви, но она была вынуждена не без горечи признать, что вместо этого на её долю выпала «привычка». Однако, если для Гончарова «привычка» — часть сложного морального уравнения, которое не имеет решения, то для Гоголя это пусть и не беспроблемный, но знак идиллической гармонии, которой так или иначе противопоставлены все прочие повести «Миргорода».
список литературы
- Александрова Э. К. Старосветские помещики в Париже: «гастрономическая» пародия Гайто Газданова // Русская литература. 2012. № 4. С. 199–206.
- Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. М.: Современный писатель, 1995. Т. 3.
- Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 3. Теория романа. М.: Языки славянский культур, 2012. С. 340–511.
- Вайскопф М. Я. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. М.: РГГУ, 2002.
- Виролайнен М. Н. Мир и стиль («Старосветские помещики» Гоголя) // Вопросы литературы. 1979. № 4. С. 125–141.
- Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л.: ГИХЛ, 1959.
- Гуминский В. М. Гоголь, Александр I и Наполеон // Наш современник. 2002. № 3. С. 216–232.
- Денисов В. Д. Граду и миру: о сборнике Н. В. Гоголя «Миргород» (1835) // Культура и текст. 2014. № 4. С. 14–34.
- Есаулов И. А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения («Миргород» Н. В. Гоголя). М.: РГГУ, 1995.
- Карпов А. А. «Афанасий и Пульхерия» - повесть о любви и смерти // Феномен Гоголя: Материалы Юбилейной междунар. науч. конф., посв. 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя / Под ред. М. Н. Виролайнен и А. А. Карпова. СПб.: Петрополис, 2011. С. 151–165.
- Кривонос В. Ш. Место и сюжет в «Старосветских помещиках» Гоголя // Отечественная литература как фактор сохранения русской идентичности в глобальном мире: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. Самара, 2017. С. 105–117.
- Лотман Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя // Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М.: Просвещение, 1988. С. 251–292.
- Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М.: Coda, 1996.
- Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 т. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1992.
- Синцова С. В. Гендерная проблематика в повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики» // Вестник Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского. Литературоведение. 2009. № 6. С. 91–97.
- Сурков Е. А. Об идиллическом в «Старосветских помещиках» Н. В. Гоголя // Н. В. Гоголь и славянский мир (русская и украинская рецепции) / Ред. Н. В. Хомук. Томск, 2007. Вып. 1. С. 47–57.
- Хомук Н. В. Архитектоника сада в повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики» // Картина мира: модели, методы, концепты. Материалы Всерос. междисципл. шк. молодых ученых «Картина мира: язык, философия, наука». Томск, 2002. С. 136–141.
- Эйхенбаум Б. М. Комментарии // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. Т. 2. Миргород / Ред. В. В. Гиппиус. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. С. 679–760.
Весь список литературы