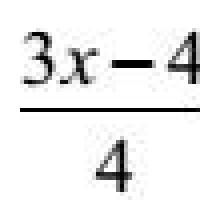Городецкий сергей митрофанович. Сергей городецкий в творчестве поэта
English: Wikipedia is making the site more secure. You are using an old web browser that will not be able to connect to Wikipedia in the future. Please update your device or contact your IT administrator.
中文: 维基百科正在使网站更加安全。您正在使用旧的浏览器,这在将来无法连接维基百科。请更新您的设备或联络您的IT管理员。以下提供更长,更具技术性的更新(仅英语)。
Español: Wikipedia está haciendo el sitio más seguro. Usted está utilizando un navegador web viejo que no será capaz de conectarse a Wikipedia en el futuro. Actualice su dispositivo o contacte a su administrador informático. Más abajo hay una actualización más larga y más técnica en inglés.
ﺎﻠﻋﺮﺒﻳﺓ: ويكيبيديا تسعى لتأمين الموقع أكثر من ذي قبل. أنت تستخدم متصفح وب قديم لن يتمكن من الاتصال بموقع ويكيبيديا في المستقبل. يرجى تحديث جهازك أو الاتصال بغداري تقنية المعلومات الخاص بك. يوجد تحديث فني أطول ومغرق في التقنية باللغة الإنجليزية تاليا.
Français: Wikipédia va bientôt augmenter la sécurité de son site. Vous utilisez actuellement un navigateur web ancien, qui ne pourra plus se connecter à Wikipédia lorsque ce sera fait. Merci de mettre à jour votre appareil ou de contacter votre administrateur informatique à cette fin. Des informations supplémentaires plus techniques et en anglais sont disponibles ci-dessous.
日本語: ウィキペディアではサイトのセキュリティを高めています。ご利用のブラウザはバージョンが古く、今後、ウィキペディアに接続できなくなる可能性があります。デバイスを更新するか、IT管理者にご相談ください。技術面の詳しい更新情報は以下に英語で提供しています。
Deutsch: Wikipedia erhöht die Sicherheit der Webseite. Du benutzt einen alten Webbrowser, der in Zukunft nicht mehr auf Wikipedia zugreifen können wird. Bitte aktualisiere dein Gerät oder sprich deinen IT-Administrator an. Ausführlichere (und technisch detailliertere) Hinweise findest Du unten in englischer Sprache.
Italiano: Wikipedia sta rendendo il sito più sicuro. Stai usando un browser web che non sarà in grado di connettersi a Wikipedia in futuro. Per favore, aggiorna il tuo dispositivo o contatta il tuo amministratore informatico. Più in basso è disponibile un aggiornamento più dettagliato e tecnico in inglese.
Magyar: Biztonságosabb lesz a Wikipédia. A böngésző, amit használsz, nem lesz képes kapcsolódni a jövőben. Használj modernebb szoftvert vagy jelezd a problémát a rendszergazdádnak. Alább olvashatod a részletesebb magyarázatot (angolul).
Svenska: Wikipedia gör sidan mer säker. Du använder en äldre webbläsare som inte kommer att kunna läsa Wikipedia i framtiden. Uppdatera din enhet eller kontakta din IT-administratör. Det finns en längre och mer teknisk förklaring på engelska längre ned.
हिन्दी: विकिपीडिया साइट को और अधिक सुरक्षित बना रहा है। आप एक पुराने वेब ब्राउज़र का उपयोग कर रहे हैं जो भविष्य में विकिपीडिया से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। कृपया अपना डिवाइस अपडेट करें या अपने आईटी व्यवस्थापक से संपर्क करें। नीचे अंग्रेजी में एक लंबा और अधिक तकनीकी अद्यतन है।
We are removing support for insecure TLS protocol versions, specifically TLSv1.0 and TLSv1.1, which your browser software relies on to connect to our sites. This is usually caused by outdated browsers, or older Android smartphones. Or it could be interference from corporate or personal "Web Security" software, which actually downgrades connection security.
You must upgrade your web browser or otherwise fix this issue to access our sites. This message will remain until Jan 1, 2020. After that date, your browser will not be able to establish a connection to our servers.
Городецкий Сергей Митрофанович.
В 1906--1907 годах опубликовал книги стихов «Ярь», «Перун», «Дикая воля» -- это были символистские произведения с фольклорным уклоном. На сборник «Ярь» откликнулись В. Я. Брюсов, Вяч. Иванов, А. Блок. Привлекали чувства свежести, жизнерадостности, веявшие со страниц книги молодого поэта, его умение выразить в слове переживания души, близкой к природным стихиям.
Жажда «большой, здоровой поэзии» и «искание мировой гармонии», с ранних лет вдохновлявшие Городецкого и бросавшие его из одной крайности в другую (от «мистического анархизма» к «реалистическому символизму» и акмеизму), приводят его к своеобразно трактуемой «русской идее», к поискам объединяющего начала в христианской религии и ее носителях -- нищих, калеках («Русь», 1910). Однако «религиозные искания» Городецкого не встретили поддержки у его ближайшего окружения, и безжалостный приговор Вяч. Иванова, вынесенный сборнику «Русь», положил конец отношениям Городецкого и вождя петербургских символистов.
В 1911 Городецкий стал одним из организаторов «Цеха поэтов». 20 октября 1911 г. на квартире Городецкого состоялось организационное заседание «Цеха поэтов», на котором он вместе с Н.С. Гумилевым был избран «синдиком» «Цеха». Так начался новый этап его литературной деятельности -- акмеистический. Городецкий становится одним из идейных вдохновителей новой поэтической школы. Выступая как критик, он энергично поддерживает собратьев по «Цеху поэтов» (А.А. Ахматову, О.Э. Мандельштама и других) и сам получает поддержку со стороны «мэтра» -- Гумилева.
Вышедший в 1914 г. сборник «Цветущий посох», объединивший стихи 1912 г., был представлен автором как программно-акмеистский. Это было подчеркнуто и в предваряющем сборник «Посвящении», и в продуманной архитектонике сборника, построенного как своеобразный дневник, и в выборе стихотворной формы -- восьмистиший, дающих, по мнению Гумилева, «возможность запечатлеть самые мимолетные мысли и ощущения». «Деятельное любование миром» в его «прекрасной сложности» и при этом ясность и четкость поэтической мысли -- вот цель, которую ставил перед собой поэт на путях акмеистического совершенствования. С 1921 жил в Москве, много публиковался, переводил поэзию народов СССР. До 1924 работал в Театре Революции, затем до 1932 -- в литературном отделе газеты «Известия». В Москве Сергей Городецкий не оставлял попыток возрождения «нового» акмеизма. В 1925 г. вышел подготовленный им сборник «Стык» -- орган московского «Цеха поэтов». Поиски поэтического языка, эквивалентного переживаниям революции, объединили в сборнике таких разных поэтов, как П. Г. Антокольский и М. А. Зенкевич, В. М. Инбер и И. Л. Сельвинский, Г.А. Шенгели и А.В. Ширяевец. В 1920-е годы Городецкий издал сборники своих стихов «Серп» (1921), «Миролом» (1923), «Из тьмы к свету» (1926), «Грань» (1929).
В 1930-е гг. много работал над оперными либретто -- это был хороший и сравнительно безопасный способ литературного заработка. Написал новый текст («немонархический») оперы М. Глинки «Жизнь за царя», получившей название «Иван Сусанин». Во время Отечественной войны был в эвакуации в Узбекистане и Таджикистане, переводил местных поэтов.
В 1958 г. опубликовал автобиографический очерк «Мой путь». В 1960-е пишет стихи, посвященные подвигу космонавтов. В последние годы жизни преподавал в Литературном институте им. М. Горького, работая с заочниками. Последние стихи - «Горячее время», «Видна дорога».
Стихи Городецкого.
городецкий акмеизм мифология революция
Чешуя моя зеленая,
Весной-красной рощеная.
Чешую ту я чешу,
Лесом-лешанькой трушу.
На березке, на дубочке
Не листочки,
А чешуйки.
Голова моя седая,
Под сединкой голубая.
Я кажинную весну
Глажу, прячу седину.
Ни на небе облачка,
Ни седого волоска
У змеюки.
Как на речке на Тетере
Разгуляньице теперя.
Через реку пыльный мост
ан не мост -- змеюкин хвост.
Я сидела, не хотела,
К петухам домой поспела,
Под тулупом-кожухом,
Руку за руку с цветком.
Вот и пятый день подходит,
И пройдет, уйдет, как все.
Видно, поровну отводит
Время горю и красе.
Красоты я знал немало
И все больше ждал да ждал.
Горя будто не бывало --
Только слух о нем слыхал.
Вот и выпало на долю
Выпить горькое вино,
Посмотреть на синю волю
Сквозь железное окно.
И смотрю: она всё та же.
Да уж я-то не такой!
Но меня ли силе вражьей
Надо сжать своей рукой?
Пусть одни уста остынут,
Эти очи отцветут,
А вот те повязки скинут,
А вот эти оживут.
Камень сверху оторвался --
Убыль верху, прибыль там,
Где раскат его раздался
По долинам и горам.
Сизый облак наклонился,
Сила вылилась дождем --
Свод пустынный прояснился,
А хлеба поют: взойдем!
Так и всё на этом свете,
И на всяком свете так:
Иссякают силы эти --
Восхожденью новых -- знак.
Мы же, маленькие звенья,
Сохраняем череду:
«Ты прошел, сосед?» -- «Прощенье!» --
«Ты идешь, сосед?» -- «Иду!»
«ШЕСТОЙ ЛИШНИЙ»
Сергей Митрофанович Городецкий прожил долгую жизнь в литературе. Он был творчески связан со многими замечательными поэтами и художниками и сам был мастером рисунка, что достаточно видно по его работам, опубликованным в книге «Жизнь неукротимая». Популярность Городецкого началась в 1905 году с его появления на «башне» Вячеслава Иванова. Он читал стихи, вошедшие потом в книгу «Ярь».
Для начала века характерны поиски новых живых источников, поиски веры взамен иссякавших традиционных вер. Это явилось одной из причин того, что творчество Городецкого так горячо приняли и Вячеслав Иванов, и другие символисты, даже Блок.
Владимир Пяст, которого Блок познакомил с Городецким, писал так: «Против меня сидел длинный студент-филолог, которого я запомнил в лицо в университете. Нос его был не менее длинен, и над ним – маленькие глаза. Блок ранее предупредил меня, что это Городецкий, интересный поэт. Действительно, чем-то необычным сразу повеяло от тех произносимых малоизящной скороговоркой стихов, в которых звучали зараз и зачатки «зауми», и какое-то сверхъестественное проникновение в ту пору, о которой я не знал ничего, за исключением только того, что странным образом присоединялось к тому, что я видел когда-то в детстве на старой бумаге, рассматривая карту древней Руси в каком-то старинном атласе (...). Из-под носа Городецкого вылетали странные звуки.
Ярила, Ярила, яри мя
Очима твоима!»
Или вот еще описание языческого жертвоприношения, которое, как утверждает тот же Пяст, «вставало при этих стихах перед глазами так точно, как если бы мы действительно были очевидцами его десять – двенадцать веков тому назад».
Отточили кремневый топор,
Собрались на серебряный бор:
В тело раз, в липу два
Опускали.
И кровавился ствол,
Принимая лицо:
Вот черта – это глаз.
Вот дыра – это рот. –
Вот две жрицы десятой весны
Старику отданы, –
Покраснела трава, –
И у ног
В красных пятнах лежит
Новый бог.
Блок восхищался этими стихами. Сохранилась фотография Блока с надписью: «Сергею Городецкому, милому другу. Александр Блок. 07» (то есть 1907 год).
С некоторым удивлением автор этих строк обнаружил, что тех стихов, что восхищали современников, в последних прижизненных изданиях Городецкого... нет совсем. Что называется, отрекаться – так отрекаться.
Одно знаменитое в те годы, много раз пародируемое стихотворение (а что ни говори, пародировать можно лишь то, что имеет лицо!) в книге поэта 1956 года («Стихотворения. 1905–1955») все-таки обнаружилось:
Звоны-стоны, перезвоны,
Звоны-вздохи, звоны-сны,
Высоки крутые склоны,
Крутосклоны зелены.
Стены выбелены бело:
Мать-игуменья велела!
У ворот монастыря
Плачет дочка звонаря:
– Ах ты, поле, моя воля,
Ах, дорога дорога,
Ах, мосток у чиста поля,
Свечка чиста четверга!
Вячеслав Иванов ценил в Городецком его мифотворчество, к которому и сам был склонен, но не только это: его восхищала энергия стиха, богатая инструментовка. Но все Перуны, Ярилы и Стрибоги скоро поднадоели самому поэту. Вторая книга «Перун» имела меньше отзывов и была слабее первой.
Какие-то песни в душе отзвучали,
И с чем-то расстаться настала пора.
Городецкий писал очень много и все публиковал, но уровня «Яри» не достигал. Впрочем, Н. Я. Мандельштам, относясь к Городецкому крайне неприязненно и пристрастно, даже о «Яри» писала так: «Я смотрела «Ярь» – в ней нет ни одной йоты подлинной поэзии, ни одного настоящего слова. Язычество с перунами – националистический вариант и своя домашняя лекарственная кухня».
Сборник стихотворений «Русь» вызвал и у Блока, неизменно симпатизировавшего стихам Городецкого, достаточно отрицательную реакцию. В это время, в 10-е годы, Городецкий отходит от символизма, начинает писать в массовых журналах, рассчитанных на невзыскательного читателя. Но одновременно принимает участие вместе с Гумилевым в создании «Цеха поэтов». Он становится синдиком, то есть цеховым старейшиной, придумывает эмблему «Цеха поэтов» – лиру. Он и Гумилев начинают борьбу за создание нового течения – акмеизма. Городецкий пишет статью «Некоторые течения в современной русской поэзии», в которой пытается сформулировать тезисы этих течений. «После всяких «неприятий» мир бесповоротно принят акмеизмом во всей совокупности красот и безобразий. (...) Но этот новый Адам пришел не на шестой день творения в нетронутый и девственный мир, а в русскую современность. (...) Символизм, в конце концов, заполнив мир «соответствиями», превратил его в фантом».
Словечко «адамизм», будто бы означающее мужественный и твердый взгляд на жизнь (Адаму, как известно, предназначена была роль назвать по именам все сущее на земле), в дальнейшем как-то затерялось, а в первых манифестах новой группы употреблялось почти как синоним «акмеизма». Акмеистические настроения преобладают в сборнике «Цветущий посох», но эти стихи не встречают поддержки даже у соратников. Несколько натянуто одобрив восьмистишия, из которых состоит сборник, Н. С. Гумилев вынужден закончить рецензию так: «У «Цветущего посоха» много недостатков, может быть, даже больше, чем позволено в наши дни для книги поэта с именем. Сергей Городецкий чаще рассказывает, чем показывает, есть восьмерки очень несделанные, есть и совсем пустые, есть ритмические недочеты, (...) нередки общемодернистические клише».
Например, восьмистишие, посвященное Льву Толстому:
Счастливый путь, родимый наш, великий,
Краса веков и сила наших дней!
Средь всех ты был как светоч тихий
Зажженных в человечестве огней.
Всю жизнь ты шел. И путь последний, здешний,
Был к матери-земле на грудь,
Чтоб, с ней вздохнув, вольней и безмятежней
Уйти в бессмертный свет. Счастливый путь.
Какие уж тут «победительные интонации»? Стихи с затрудненным дыханием, да, наконец, просто неумелые, что странно для синдика, то есть мастера.
С началом первой мировой войны Городецкий подключается к хору ее «барабанщиков». Попадаются в его стихах и монархические мотивы. Н. Я. Мандельштам упоминает о книге «Сретенье царя», из-за которой он будто бы после революции весьма опасался за свою судьбу. Такой книги, по-видимому, не было, но было стихотворение с таким названием («Нива». 1914. № 3).
В 1915 году к Городецкому с запиской от Блока приходит С. Есенин и отдает себя под его покровительство. Виктор Шкловский пишет об этом так: «Они (Клюев и Есенин. – В. Р.) вошли в кухню, стали читать стихи и доставили Сергею Митрофановичу Городецкому возможность открыть себя. Был это моторизованный необитаемый остров, который сам приплыл к Куку: "Пожалуйста, открой меня!"»
Городецкий организовал группу «Краса», в которую, кроме Есенина, вошли Н. Клюев, С. Клычков, Б. Верхоустинский, А. Ширяевец и другие. Он намеревался устраивать вечера молодых крестьянских поэтов, но состоялся, по-видимому, лишь один вечер – шла война.
Некую симпатию к Городецкому Есенин декларировал и несколько лет спустя, когда говорил А. Мариенгофу: «Из всех петербуржцев люблю только Разумника Васильевича (Иванова. – В. Р.) и Сережу Городецкого – даром что Нимфа (так прозвали в Петербурге жену Городецкого) самовар меня заставляла ставить и в мелочную лавку за нитками посылала».
Группа «Краса», о которой Зинаида Гиппиус в парижских «Последних новостях» 1922 года ехидно писала: «Это была группа поэтов-стилизаторов с направлением в этот период, то есть в годы 15-16, сугубо псевдонародным и военно-патриотическим», – вскоре распалась.
А Городецкий осенью 1916 года отправляется на Кавказский фронт, перед этим основательно поссорившись и с Вячеславом Ивановым, и с Блоком. Там его ура-патриотический угар быстро сдуло. «Когда я очутился на дороге, покрытой трупами наших солдат, и увидел колеи, забитые ранцами, окровавленными бинтами и шинелями, – я впервые понял, куда привело меня мое петербургское легкомыслие. Я понял, чем расплачивается Россия за участие в этой войне», – писал позднее С. М. Городецкий.
Февральская революция застала Городецкого в Иране, в лагере для сыпнотифозных солдат. Затем, чудом спасшись, он оказывается в Тифлисе. Там он организует журнал «Нарт», остро критикующий правительство Грузии, за что его по личному распоряжению Ноя Жордания высылают из Тифлиса. Вопреки утверждению Георгия Иванова, Городецкий не служил в «Осваге» и вообще у белых, так как на территории, контролируемой белыми, никогда не находился. Из Тифлиса поэт перебирается в Баку. Там он пишет стихи, обличающие колонизаторов, такие как «Восточный крестьянин», «Кофе».
Рано ушедший из жизни добрый и талантливый поэт Дм. Голубков называет эти стихи замечательными, вспоминает, что Анри Барбюс перевел их на французский, откуда они разошлись по всему белу свету, но, на мой взгляд, это стихи конъюнктурные и к тому же не слишком талантливые.
Сломать насилье! Снять с дикарской воли
Бесстыдство злое купли и продажи!
Плетей не надо для цветов магнолий!
Не надо солнцу океана стражи!
Отмстить за бешенство бичей ременных!
Пусть хищники в туман уйдут кровавый!
Да здравствует свобода угнетенных
Во всех краях и на болотах Явы!
Даже как чистая риторика это – не первый сорт.
Н. Я. Мандельштам вспоминает, как в Баку Городецкий явился к ним с визитом в вагончик на запасном пути, где они с Осипом Эмильевичем тогда жили: «Сидел он долго и все время балагурил, но так, что показался мне законченным маразматиком. У нас еще не было опыта для распознавания творческого идиотизма, и Ахматова лишь через много лет придумала форму «маразматист-затейник» или, вздыхая, говорила про безумных стариков: «Маразм крепчал».
Эти слова характеризуют сорокалетнего Городецкого, как в день нашей встречи, так и в Москве, куда он скоро переехал. (...)
– Он всегда был таким? – спросила я.
Мандельштам ответил, что почти таким, но сейчас он еще притворяется шутом, потому что смертельно напуган: незадолго до революции он выпустил книгу «Сретенье царя» (см. об этом выше. – В. Р.) и теперь боится, как бы ему не пришлось за нее отвечать.
(...) Я почему-то сразу сообразила, что такой не пропадет.
(...) И физиономия у него была соответственная: огромный кадык, крошечные припрятанные глазки и забавный кривой горбатый нос. Солнечная физиономия».
«В Москве страх прошел – Городецкий сумел договориться с новыми хозяевами, и в том, вероятно, сыграло свою роль то, что он бывший солнечный мальчик, надежда русской поэзии. Мандельштам правильно заметил, что большевики свято верили оценкам символистов».
Но он стал писать такие стихи:
В грозовом твоем ударе,
Пролетарий,
Вспыхнул алый хоровод
Всех свобод.
Из Октябрьского мгновенья
Всем векам
Светит серп освобожденья,
Как прожектор морякам.
Евгений Замятин в альманахе «Дом искусств» напечатал нашумевшую статью «Я боюсь», в которой были такие слова: «В 1794 году 11 мессидора Пэйан, председатель комиссии по Народному Просвещению, издал декрет, и вот что, между прочим, говорилось в этом декрете: «Есть множество юрких авторов, следящих за злобой дня, они знают моду и окраску данного сезона, знают, когда надо надеть красный колпак и когда его скинуть. В итоге они лишь развращают вкус и принижают искусство. Истинные гении творят вдумчиво и выполняют свои замыслы в бронзе, а посредственность, притаившаяся под эгидой свободы, похищает ее именем мимолетное торжество и срывает цветы эфемерного успеха».
Этим презрительным декретом французская революция гильотинировала переряженных придворных поэтов. А мы своих юрких авторов, знающих, когда надеть красный колпак и когда скинуть, когда петь сретенье царя и когда молот и серп, – мы их преподносим как литературу, достойную революции».
Ясно, что Е. И. Замятин имел в виду Сергея Митрофановича: ведь это у него и про сретенье царя, и про серп и молот.
Время было трудное, никто не вправе кого-либо осуждать, ведь и Мандельштам, и Пастернак пытались писать «как требуется», но все же не отказываясь от собственного голоса, от главного в себе.
В Москве Городецкий поселился в старом доме возле Иверской, он уверял гостей, что это покои Годунова. Как описывает Дм. Голубков, «в его пустынной, тускло освещенной квартире гулял ветер, дышала стужа (Городецкий никогда не закрывал огромного итальянского окна своей комнаты – в лютый мороз сидел он за столом t;te-а-t;te с ледяной вьюгой и снегом)».
Он, как и многие, значительную часть своего времени уделяет переводам, создает новое либретто к «Ивану Сусанину» М. Глинки, сочиняет и тексты к операм советских композиторов. Но стать значительным советским поэтом ему не удается, хотя он сам, по уверению ряда современников, не теряет уверенности в своей «гениальности».
Ряд его стихов, написанных в 30-е годы, например «Поэт», «Горе», включаются в антологии. В этих стихах еще чувствуется экспрессия, постепенно исчезающая из поэзии Городецкого.
Птице- песне крылья мяли,
Птице-песне горло рвали
И давили грудь пятой.
Слово чахло и ссыхалось,
Слово с мыслью расставалось,
Слово сделалось мечтой.
Это, разумеется, при проклятом прошлом, а вот теперь – в 1935 году – стало так:
Птицы-песни взлет свободен,
Птицы-песни голос годен
И в бою, и за трудом.
Слово чувством накалилось,
Слово мыслью утвердилось,
Слово стало рычагом.
Когда началась война, поэт откликается на это трагическое событие циклом стихов. Увы, они не дотягивают до уровня не то что Сельвинского, но даже Демьяна Бедного.
В эвакуации он живет в Ташкенте, где с ним снова довелось столкнуться Надежде Яковлевне Мандельштам. Дадим ей слово, хотя эта замечательная женщина пишет о бывшем акмеисте с яростью и презрением. «Он жил в том же доме, что Ахматова, – она в каморке на втором этаже полуразрушенного трущобного дома, он внизу в сносной квартире. (...) Говорить с таким типом мне не хотелось, потому что все годы он только и делал, что публично отрекался от погибших и вопил про адамистов, ничего общего с акмеистами не имевших. Зато он перехватывал людей, шедших к Ахматовой, и спрашивал, что делает там наверху «моя недоучка»?
До нас доходили его высказывания за чайным столом про контрреволюционную деятельность Ахматовой, Гумилева и прочих акмеистов, по имени не называемых. Все, что говорил Городецкий, звучало, как донос, но я не знаю, ограничивался ли он болтовней во дворе да еще публичными выступлениями или ходил со своими доносами по начальству...
...Неудавшийся поэт, смолоду вкусивший хвалу и нечто вроде известности, превращается в зрелые годы в существо, не достойное имени человека. Сгусток злости и зависти отравляет его жизнь».
Остановим эту клокочущую негодованием речь Надежды Яковлевны, добавив для справедливости, что начальство его тоже не слишком признавало: одна книга, «Стихотворения», вышла в 1956 году (в «оттепель»), а следующая – сразу вслед за смертью Городецкого, в 1968 году.
Мне не хотелось писать главу о Городецком, странная и жалкая это фигура. Но из песни слова не выкинешь – он все-таки был акмеистом, иногда был и поэтом. Акмеистов было, как мы знаем, шесть. Он был шестым. Лишним.
Литература
1. Блок А. А. Собр. соч. в 8 томах. Т. 6. – М.-Л.: ГИХЛ, 1962.
2. Берберова Н. Н. Курсив мой. – М.: Согласие, 1996.
3. Woroszylski W., Watala E. Zycie Sergiuza Esenina (Перев. В. Рутминского. Рукопись).
4. Городецкий С. Жизнь неукротимая. – М.: Современник, 1984.
5. Городецкий С. Русские портреты. – М.: Правда, 1978 (б-ка «Огонек»).
6. Гумилев Н. Письма о русской поэзии. – М.: Мысль, 1922.
7. Замятин Е. Я боюсь // Альманах «Дом искусств». 1920. № 1.
8. Иванов Г. Петербургские зимы. – М.: Книга, 1989.
9. Мандельштам Н. Вторая книга. – М.: Московский рабочий, 1990.
10. Машинский С. Поэзия Сергея Городецкого / В кн.: С. Городецкий. Стихотворения. 1905-1955. – М.: ГИХЛ, 1956.
11. Пяст В. Встречи. – М.: Федерация, 1929.
Городецкий Сергей Митрофанович
Родился: 5 (17) января 1884 года.
Умер: 7 июня 1967 (83 года) года.
Биография
Сергей Митрофанович Городецкий (5 (17) января 1884, Санкт-Петербург, Российская империя - 7 июня 1967, Обнинск, СССР) - русский и советский поэт, переводчик.
Сын писателя-этнографа Митрофана Ивановича Городецкого. Окончил 6-ю Санкт-петербургскую гимназию, в 1900-е годы учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета одновременно с Александром Блоком (не окончил) и с этого времени увлёкся поэзией. В 1905 посещал «башню» Вячеслава Иванова. В 1906-1907 годах опубликовал книги стихов «Ярь», «Перун», «Дикая воля» - это были символистские произведения с фольклорным уклоном. В 1909 году публиковался в журнале «Пробуждение». В 1910-е гг. Городецкий разошёлся с символистами, и в 1912 стал одним из организаторов Цеха поэтов (совместно с поэтом Николаем Гумилевым). В 1915 протежировал так называемым «новым крестьянским поэтам» (С. Есенин, С. Клычков, Н. Клюев, А. Ширяевец).
С осени 1916 года находился на Кавказском фронте Первой мировой войны в качестве представителя Союза городов и военного корреспондента. Позднее некоторое время работал санитаром в лагере для больных сыпным тифом. После Октябрьской революции издал книгу стихов «Ангел Армении», где, в частности, отражена тема геноцида армян. Знал армянский язык[источник не указан 450 дней]. Его учителем был сын армянского поэта Туманяна, Амлик Иванович Туманян[источник не указан 450 дней]. Будучи в Баку, Городецкий заведовал художественным отделением РОСТА, затем работал в Политуправлении Каспийского флота.
С 1921 жил в Москве, много публиковался, переводил поэзию - как народов СССР, так и зарубежную. До 1924 работал завлитом в Московском Театре Революции, редактировал журнал «Искусство трудящимся», затем до 1932 - в литературном отделе газеты «Известия». В 1930-е гг. много работал над оперными либретто - это был хороший и сравнительно безопасный способ литературного заработка. Перевёл либретто опер: «Фиделио» Бетховена, «Водонос» Керубини, «Нюрнбергские мейстерзингеры» и «Лоэнгрин» Р. Вагнера.
Создал либретто одной из первых опер советской тематики - «Прорыв» композитора С. И. Потоцкого - о гражданской войне. Для композитора В. М. Юровского написал либретто оперы «Дума про Опанаса», по одноимённой поэме Э. Г. Багрицкого. Написал новый текст («немонархический») оперы М. Глинки «Жизнь за царя», получившей название «Иван Сусанин».
Во время Отечественной войны был в эвакуации в Узбекистане и Таджикистане, переводил местных поэтов.
Выступал как критик и литературовед. В 1911 году подготовил и издал двухтомное собрание стихотворений Ивана Никитина с собственной вступительной статьёй.
Творчество
В своей ранней лирике Городецкий испытал влияние символистов, прежде всего - Вячеслава Иванова, А. Блока и К. Бальмонта, для него характерно возвращение к мотивам языческой славянской мифологии и первобытных сил, проявляющихся в связи с природой. После большевистского переворота Городецкий писал политические стихи - от агиток периода гражданской войны, приветствий пролетарским поэтам (1921), партийным съездам (1931, 1958) и космонавтам (1962) до текста кантаты «Песнь о партии».
- Вольфганг Казак
Семья
Жена - актриса и поэтесса Анна Алексеевна Городецкая (урожд. Козельская);(лит. псевдоним Нимфа Бел-конь-Любомирская); (1889-1945). Замужем за С. Г. с 1908. По словам А. А. Блока отличалась необыкновенной красотой.
Дочь - Рогнеда Городецкая-Бирюкова (р. 1909), внучка Наталья Юрьевна Бирюкова, правнучка - Татьяна.
Зять - композитор Бирюков
Брат - Городецкий Александр Митрофанович (1886-1914), художник, периодически страдал психическими нервными расстройствами. Болел, последние два года парализованный. Автор картины «Венок на могилу Комиссаржевской», скомпонирированной из кусочков ваты.
Книги
Ярь. - СПб., 1907; 2-е изд. - СПб.: Т-во Вольф, 1909.
Перун. - СПб.: Оры, 1907.
Дикая воля. - СПб.: Факелы, 1908.
Ия: Стихи для детей. - 1908.
Кладбище страстей. Рассказы. - М., 1909. - Т. 1.
Русь. - М.: Изд. Сытина, 1910.
Повести и рассказы. - СПб., 1910.
Царевич Малыш. - СПб.: Т-во Вольф, 1910. - 28 с.
Ива. - СПб.: Шиповник, 1913.
Цветущий посох. - СПб., 1914.
На земле: Рассказы. - СПб., 1914. - 230 с.
Четырнадцатый год. - Пг.: Лукоморье, 1915.
Пушкину. - Пг., 1915.
Изборник: Стихи 1905-1917 гг. - М., 1916.
Алый смерч. - Тифлис, 1918; М., 1927.
Судьба России. - Тифлис, 1918.
Ангел Армении. - Тифлис, 1919.
Серп. - Пг.: Гиз, 1921.
Миролом. - М.: Гиз, 1923.
Весна безбожника. - Л.: Прибой, 1925.
Старуха на духу. - М.: Атеист, 1925.
Из тьмы к свету. - Л.: ГИЗ, 1926.
Про Ивана-Безбожника. - Л.: ГИЗ, 1926.
Московские рассказы. - М., 1927.
Грань. - М.: Никитинские субботники, 1929. - 104 с. - 2 000 экз.
Избранные лирические и лиро-эпические стихотворения. 1905-1935. - М., 1936.
Думы. - Ташкент, 1942.
Песня дружбы. - Минск, 1947.
Стихотворения. 1905-1955. - М., 1956.
Стихи. - М., 1964.
Стихи. - М., 1966.
Стихотворения и поэмы. - М., 1974.
Жизнь неукротимая: Статьи. Очерки. Воспоминания. - М.: Современник, 1984.