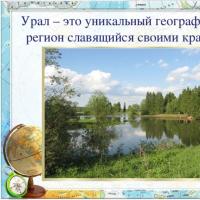Геннадий Александрович Сучков: биография. Путинская энциклопедия - сучков геннадий александрович Участие в церемонии приняли экипажи кораблей и командование Кольской флотилии, местные власти, родные и друзья адмирала, среди которых известный писатель-мари
7 августа исполнилось пять лет, со дня кончины известного русского подводника, адмирала Геннадия Александровича Сучкова.
В День памяти адмирала Г.А.Сучкова, 7-го августа, его товарищи и сослуживцы, активисты ОДПФ во главе с председателем правления Движения М.П. Ненашева возложили цветы на его могилу на Троекуровском кладбище столицы. Вечная благодарность сподвижникам, учителям-командирам и соратникам!…
Вспомним адмирала Сучкова Г. А., моряка, подводника, флотоводца и человека! Память человеческая — вещь хрупкая и недолговечная. Но мы, — люди, в эти дни давайте помянем по русской, по воинской традиции — зажжем свечу в его память, поднимем стопки со словами памяти …
Я — еще тот верующий, конечно, но как-то разговаривал с одним священником, в миру закончившим философский факультет МГУ, обладающим пытливым умом, задающим вопросы по поводу и без, и искавшим ответы. Так вот, он мне рассказывал эмоциональную и теологическую суть поминовений. Вспомнил ушедшего — и стало его душе легче, получила она поддержку. Не даром же стены русских изб, казачьих домов и куреней были увешаны фотографиями ушедших от нас дорогих нам людей… Кто знает? С тех пор чту эти традиции, вспоминаю родных и друзей товарищей, которые ушли. А с каждым годом их все больше!
Как воин, моряк, как мужчина он до последнего дня боролся с тяжелой болезнью. Даже на берегу догоняют подводников все эти «отрицательные» факторы — стрессы, недосыпания, влияние разных вредных полей, переохлаждения … Подводники с дизельных ПЛ знают, что это такое, и не надо описывать ужастики и страсти. На АПЛ — служба тоже не курорт, но всё же, всё же, всё же …

на фото командир ПЛ » Б-105″ кап. 2 ранга Г. Сучков и комбриг Мохов
А у Геннадия Александровича — по самым скромным подсчетам его друзей сослуживцев — было 20 дальних походов, «автономок» — как их тогда называли. И в Средиземке, и в Южной Атлантике, а уж в северных морях-то, на противолодочных рубежах — постоянно. Говорят, что чисто подводных суток было около 2000 (!!!), а пройденных миль — раза три по экватору вокруг шарика … Говорят, что ни один из ныне живущих адмиралов не провел столько лет жизни в прочном корпусе.
Военная служба, стезя командира — дело суровое, жесткое, требующее — иной раз — негуманных, быстрых решений. Особенно — в подплаве. Работа такая — сказали бы в каком-нибудь фильме.
Злопамятным Геннадий Александрович, кстати, не был … бывало ругал — крепко ругал — но за дело. И моряки отделывались внушением и эмоциональным разносом, там, где могли бы бы и нарваться на серьезные взыскания. влияющие на карьеру и даже судьбу. Он внушал уважение к себе, даже тем, кто его не знал, и не званием, статусом. а какой-то внутренней силой.
Возможно, я ошибусь, но за долгие годы он — единственный «полный адмирал», вышедший из командиров «дизелей». Из командиров АПЛ — много вышло адмиралов, и даже главкомов, а из дизельных …. Разве что еще, в конце пятидесятых, адмирал флота Касатонов Владимир Афанасьевич.
Понимаете ли, у надводников есть такое почетное прозвище — «палубный адмирал», что означает, в отличие от «паркетного», что вся его карьера прошла на стальных палубах, на ходовом посту, на мостике — как традиционно называли корабельный пункт управления, «мозг корабля», а не в сияющих коридорах и и уютных кабинетах высоких штабов, из окон которых не видно моря. Как -то слышал, несколько ироничное, по -доброму завистливое выражение» адмирал прочного корпуса». Г.А. Сучков имел допуск ко многим проектам и типам кораблей и ПЛ, по восхищенным свидетельствам ближнего окружения, обладал энциклопедическими знаниями морских театров, достижений современной Военно-морской науки.
Адмирал Сучков до последних дней, пока здоровье хоть как-то позволяло, не знал покоя, летал в командировки на флоты, самолетами, с одного конца нашей страны в другой, с севера на Восток, с Юга на Запад. А самолетах — читал, от взлета до посадки. Ему все было интересно. Заинтересовался он и моими книгами, так как когда-то я служил под его командованием. тоже. говорят, они ему нравились…
Геннадий Александрович долго лечился в госпитале, болезнь то отступала, то переходила в наступление …
Последний раз пришлось увидеться с ним 28 марта 2013 года, на заседании Правления ОДПФ, когда председатель правления Движения М.П. Ненашев и адмирал Сучков вручали мне награду — «адмиральский кортик», за 10-ю книгу, книгу «Морская служба как форма мужской жизни».
Были у него планы по поводу художественной книги о подводниках «холодной войны», о чем мы бегло поговорили, пообещав друг другу встретиться и более конкретно поговорить. А потом, уже в августе, мне позвонили и сообщили печальную весть.
 Похоронили беспокойного» адмирала прочного корпуса» на Троекуровском кладбище, где покоятся много заслуженных людей, военных, деятелей культуры. Хорошая ему подобралась компания. Кто его знал — не забудет, вспомнит. Как говорят, царство ему небесное, мир его праху! Не откладывайте добрых дел и добрых слов людям «на потом», этого «потом» может и не быть!
Похоронили беспокойного» адмирала прочного корпуса» на Троекуровском кладбище, где покоятся много заслуженных людей, военных, деятелей культуры. Хорошая ему подобралась компания. Кто его знал — не забудет, вспомнит. Как говорят, царство ему небесное, мир его праху! Не откладывайте добрых дел и добрых слов людям «на потом», этого «потом» может и не быть!
Из некролога Военного Совета Северного флота:
Родился Геннадий Александрович 7 января 1947 года в селе Митрополье Горьковской (ныне Нижегородской) области. Сразу после окончания школы поступил в Ленинградское Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе. С этого момента жизнь и судьба Г.А. Сучкова были неразрывно связаны с Военно-морским флотом России.
В 1969 году после окончания ВВМУ им. М.В.Фрунзе лейтенант Сучков был назначен на должность командира торпедной группы подводной лодки Северного флота. Всего лишь год понадобился молодому офицеру, чтобы шагнуть на следующую ступеньку служебной лестницы – в 1970 году его назначают командиром БЧ-3 ПЛ, а через два года – старшим помощником командира подводной лодки.
В 1977-1978 гг. Геннадий Александрович проходит обучение на Высших специальных офицерских классах ВМФ, после окончания которых принимает под своё командование подводную лодку «Б-105» и выводит её в лучшие корабли соединения.
9 июня 1980 года Г.А. Сучков возглавляет экипаж подводной лодки «Б-4», но руководит им недолго, поскольку в августе 1981 года поступает в Военно-морскую академию им. Маршала Советского Союза А.А. Гречко, по окончании которой получает под своё командование новую подводную лодку.
С 1985 года в служебной карьере Геннадия Александровича начинается новый, более сложный этап. Он назначен начальником штаба 42-й бригады подводных лодок, но пребывает в этой должности всего несколько месяцев. В декабре 1986 года он принимает бригаду под своё командование.
Штабная должность не отлучила офицера от моря. Он по-прежнему ходит в дальние походы на кораблях соединения, как старший на борту помогает командирам подводных лодок решать поставленные задачи.
В ноябре 1988 года капитан 1 ранга Г.Сучков становится начальником штаба 4-й Краснознамённой ордена Ушакова I степени эскадры подводных лодок Северного флота. До сих пор в музее первой флотской столицы городе воинской славы Полярном хранятся документы и фотографии, свидетельствующие о славных делах почётного гражданина города Геннадия Александровича, совершённых на посту начальника штаба, а затем и командира Краснознамённого орденоносного соединения.
В 1994 году Геннадий Александрович Сучков покидает Северный флот. По окончании курсов при Военной академии Генерального штаба ВС РФ он назначен на должность 1-го заместителя командующего Черноморским флотом.
Это был первый шаг в карьере флотоводца. Через шесть лет вице-адмирал Геннадий Сучков возглавил Тихоокеанский флот, однако служил в этой должности всего полгода. В декабре 2001 года он был назначен командовать самым молодым, но самым мощным объединением ВМФ -Северным флотом.
Вернувшись на ставший за годы службы родным Север, Геннадий Александрович начал активную деятельность по повышению боеготовности флота. Буквально за полгода он побывал на всех объединениях, в соединениях, частях и на кораблях флота, лично выявлял недостатки и намечал пути их устранения.
Однако выполнить всё намеченное ему не удалось. В сентябре 2003 года адмирал Геннадий Александрович Сучков снова расстался с флотом, а через некоторое время ушёл в отставку.
В 2005 году Г.А. Сучков был назначен советником министра обороны Российской Федерации, а в 2007 году был избран президентом Международной ассоциации общественных организаций ветеранов и подводников Военно-морского флота России.
За доблестную службу в рядах ВМФ России, выполнение сложнейших задач в дальних походах и во время боевых служб, мужество и высокий профессионализм адмирал Г.А. Сучков награждён орденами Красной Звезды, «За службу в Вооружённых Силах СССР» III степени, Дружбы, 13 медалями, удостоен звания действительного государственного советника Российской Федерации 3-го класса.
Память об адмирале Г.А. Сучкове навсегда сохранится в сердцах его сослуживцев, тех, кому он дал дорогу в море, с кем не раз обживал прочный корпус подлодки, с кем делил радость побед и горечь неудач. Его будут помнить все, с кем ему довелось служить и работать
Адмирал Геннадий Александрович Сучков умер 7 августа. Подводник-дизелист, прошел все ступени службы, наплавал на лодках в подводном положении целых 10 лет (общий срок службы в плавсоставе 19 лет, не учитывая выходов в море на испытание «Булавы»), имел на счету 20 боевых походов. Сучков командовал тремя российскими флотами: Черноморским, Тихоокеанским и Северным, последовательно шел к должности Главнокомандующего ВМФ РФ. Несмотря на общий упадок страны и армии, меня не покидает уверенность: Геннадий Александрович Сучков мог стать для российского флота тем, кем был для ВМФ СССР легендарный Николай Герасимович Кузнецов. Но утонувшая при буксировке в 2003 году отстойная лодка первого поколения К-159 утопила и эту, последнюю надежду флота на главкома-профессионала.
С Геннадием Александровичем Сучковым я познакомилась зимой 2004 года. В самый разгар закрытого судебного процесса по делу о гибели К-159 и 9 из 10 членов экипажа, сопровождавших лодку на утилизацию. Директива на буксировку лодок отстоя по дурацкому технически опасному проекту была подписана лично Куроедовым. А последний экипаж К-159 отнесся к переходу крайне легкомысленно и совместил службу с личным интересом. Люди использовали ржавую лодку как бесплатный «контейнер» и перевозили на ней свои вещи: я помню, был какой-то холодильник и много чего еще, в том числе ящики с водкой. И когда лодка начала тонуть, только один из 10 подводников сумел сохранить адекватность и поднялся на мостик в жилете. Был спасен. Это бардак, да. Но почему-то за него ответил только один человек. И это был сильнейший конкурент любимого главкома Путина — Владимира Куроедова.
Из логики обвинения выходило, что личное бездействие командующего Северным флотом адмирала Сучкова привело к трагедии, что, конечно же, было нелепо и чудовищно несправедливо. Особенно в сравнении с делом «Курска», которое позорно прикрыли, выведя из-под уголовной ответственности многочисленных виновников трагедии. В том числе и Куроедова. Эффект отложенного правосудия сыграл злую шутку, когда в 2003 году, буквально через пару дней после трагедии, министр обороны Иванов и начальник генштаба Квашнин публично назначили виноватым адмирала Сучкова. А главком Куроедов впервые за всю историю морского братства дал показания против своего подчиненного в суде.
Я знаю, что Квашнин и Иванов очень сильно сожалели о своей неуравновешенной первой «политической» реакции. И потом сделали все, чтобы сохранить Геннадия Александровича Сучкова для флота. Я точно это знаю, потому что способствовала этой работе над ошибками и лично убедилась: высокопоставленные чиновники могут быть вменяемыми. Но даже они не могут остановить маховик системы, которая базируется на полном отсутствии правосудия.
И все-таки это была грандиозная битва. В ходе сражения главком Куроедов вогнал в ужас полмира. На сенсационное заявление Куроедова о том, что на атомном крейсере «Петр Великий» плохо организована служба и «в любую минуту корабль может взлететь на воздух со своими ядерными установками», не отреагировал разве только президент Путин. Настоящая причина куроедовских заявлений и санкций (лишил экипаж крейсера премии и вымпела) — месть командиру «Петра Великого» Владимиру Касатонову за дядю. Дядя — адмирал в отставке Игорь Касатонов — выступил экспертом на суде по К-159. И разнес в пух показания Куроедова.
На защиту Сучкова тогда встали все четыре флота России. Под открытыми письмами подписывались целые экипажи подводных лодок. Я уж не говорю о ветеранах Военно-морского флота. К Путину ходили полпред Клебанов и главком Чернавин. За Сучкова ходатайствовали губернаторы и главы регионов страны. Москва, Мурманск, Белгород, Воронеж, Курск, Орел... Активное шефство над подводными лодками, названными в честь городов России, возродил именно Геннадий Саныч. По его просьбе, задолго до всяких ипотек, сертификатов и субсидий, Лужков, Громов и Савченко решали проблемы жилья для офицеров. Когда остро стоял вопрос о спасении отправленных Куроедовым в утиль стратегических лодок 941-го проекта, когда решалась судьба баллистических ракет, Геннадий Саныч добился от председателя Сбербанка Андрея Казьмина льготного кредита. Сучков был безусловным носителем петровского понимания роли флота для России. Он конструировал возможность государственного подхода к решению проблем страны даже в наше далеко не петровское время. И пример этот был заразительным.
Весной 2004 года главком Куроедов провел в Североморске военный совет и выразил злобное неудовольствие офицерам за то, что поддержали адмирала Сучкова: «Ни хрена не занимаетесь флотом, только орете: «Руки прочь от Ходорковского!» Одной фразой Куроедов провел очевидные параллели: боевой адмирал для главкома, что олигарх — для президента. Но и на самом деле Сучков и Ходорковский в чем-то были схожи. Они думали и поступали так, как должны были думать и поступать те, кто управляет страной.
А страна этой битвы за адмирала даже не заметила. О роли «Новой газеты» в той истории Геннадий Саныч сказал так: «Вашу газету в моей среде считают чуть ли не вражеской. Вы были последними в списке, на чью поддержку я рассчитывал. А оказалось, что вы — единственные».
Кстати, о порочащих связях... Из опасений, что поддержка оппозиционной газеты может быть истолкована во вред, мы с адвокатами Сучкова Сашей Шадриным и Володей Черкасовым разработали шифрованный способ общения. Геннадию Санычу мы придумали позывной — «командир». С тех пор прошла тонна лет, но когда я говорю «командир» — все понимают, о ком речь. Приросло.
Вскоре после приговора (Сучкова признали виновным и осудили на 4 года условно) министр обороны Сергей Иванов назначил его своим советником. При этом Иванов показательно публично выразил уже осужденному Геннадию Санычу благодарность за руководство флотом и сказал, что такими офицерами Россия разбрасываться не должна. На должности советника Сучков пережил и Иванова, и Сердюкова. Мы редко встречались. До меня окольными путями доходили рассказы о полетах во сне и наяву нашей горемычной «Булавы». Для того чтобы «Булава» начала наконец летать успешно, требовалось в том числе и мужество — взять ответственность на себя. И Сучков каждый раз выходил в море на испытательные стрельбы и брал на себя эту ответственность.
6 февраля в газете «Коммерсантъ» вышла очень подлая статья. Журналисты написали про Сучкова, что он лоббирует коммерческие интересы и стоит за поставками для флота негодных комплектующих к торпедам.
В тот день я решительно позвонила командиру и напросилась на «кофе глясе». Это был наш ритуал: мы садились в кафе, он заказывал три шарика разного мороженого, а я — капучино и пепельницу.
С торпедами все оказалось очень примитивно и грубо. В 2011 году, при Сердюкове, была создана рабочая комиссия, которую возглавил Сучков и которая должна была придумать выход из катастрофы. К тому времени все морское подводное оружие флота оказалось за пределами назначенного срока службы и каждый день могла повториться трагедия «Курска». Спохватился именно Сучков. Это не нравилось очень многим и в промышленности, и в Минобороны. Воспользовавшись сменой караула в Минобороны, лоббисты повели активную атаку на рабочую комиссию Сучкова.
Я потратила три месяца, разбираясь в проблеме. Мой редактор при слове «торпеда» нехорошо вздрагивает и говорит, что я тоже утонула. Статья «Страшная военная тайна» была опубликована в «Новой» накануне Дня Военно-морского флота. Геннадий Саныч вычитывал ее, уже находясь в реанимационном боксе в Бурденко. Он очень надеялся, что статья сдвинет ситуацию…
Как-то Геннадий Саныч мне сказал: «Я не понимаю, о чем думают те, кто принимает решения. Даже вашей газете важно разобраться, а государственные СМИ молчат!»
«Потому что мы и есть настоящие патриоты, командир!» — отшутилась я.
В день смерти Геннадия Александровича мне позвонил министр обороны Сергей Шойгу. Выразил соболезнования. Сказал, что прочитал мои статьи и подготовил приказ о расширении полномочий Сучкова. Вот только...
На протяжении девяти лет нашего знакомства командир совсем не менялся — седой, сухощавый, будто высушенный морским ветром, невысокий, как большинство подводников, очень быстрый. Я еле успевала шагать за ним, уцепившись за его локоть.
Геннадий Саныч сгорел мгновенно, как бенгальский огонек. Я твердо верила, что болезнь с ним не справится, шутила изо всех сил по телефону и планировала навестить, как только переведут из реанимации. А он умер накануне. И я не успела.
Над моим рабочим столом с давних пор висит сверстанная полоса с интервью Сучкова и его цитатой в заголовке: «Подчинюсь только приказу президента». Он дал мне это интервью в мае 2004-го, сразу после приговора по делу К-159, в своем кабинете командующего Северным флотом.
Я, видимо, очень им горжусь.
сучков геннадий александрович
(р. 07.01.1947)
Командующий Тихоокеанским флотом с июля по декабрь
2001 г., командующий Северным флотом с декабря 2001 г. по сентябрь
2003 г. в первом президентском сроке В. В. Путина.
Родился в селе Митрополье Сеченовского района Горьковской
области. Образование получил в Ленинградском высшем военно‑морском
училище им. М. В. Фрунзе (1969), в Высших офицерских классах ВМФ СССР (1978), в
Военно‑морской академии (1983). В 1969–1970 гг. проходил службу в
должности командира торпедной группы БЧ‑3 большой подводной лодки
Северного флота. В 1970–1972 гг. командир БЧ‑3 подводной лодки.
Прошел все ступени службы: старший помощник командира подводной лодки, командир
подводной лодки, командир бригады подводных лодок, начальник штаба соединения,
командир соединения. С декабря 1994 г. первый заместитель командующего
Черноморским флотом, одновременно начальник Севастопольского гарнизона. С июля
2001 г. командующий Тихоокеанским флотом. С декабря 2001 г.
командующий Северным флотом. Сменил в этой должности В. А. Попова, снятого в
ходе расследования обстоятельств гибели атомной подводной лодки «Курск».
Адмирал. Прослужил в плавсоставе 19 лет. Участвовал более чем в 20 дальних
походах. Наплаванность (только на подводных лодках в подводном
положении) – около 10 лет. 11.09.2003 г. временно отстранен от
должности после гибели экипажа атомной подводной лодки К‑159, затем
переведен в распоряжение министра обороны РФ. 18.05.2004 г. приговорен
Северным морским военным судом за халатность, повлекшую по неосторожности
гибель людей, к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в
два года. Причиной послужила гибель в Баренцевом море в ночь на 30.08.2003 г.
списанной атомной подводной лодки К‑159, буксируемой с базы в Гремихе в
г. Полярный на судоремонтный завод для утилизации. В штормовых условиях один из
понтонов оторвался, и лодка затонула на глубине 170 м. Из десяти
находившихся на борту членов швартовой команды спастись удалось лишь одному –
старшему лейтенанту Максиму Цибульскому. Согласно решению суда, командующий
флотом не предусмотрел аварийно‑спасательного обеспечения экипажа и
должной подготовки личного состава. Кроме того, суд установил, что Г. А. Сучков
слишком поздно отдал приказ о начале операции по спасению экипажа.
Г. А. Сучков свою вину не признал и подал кассационную
жалобу, но Военная коллегия Верховного суда РФ 06.09.2004 г. оставила
приговор в силе. С апреля 2005 г. советник министра обороны РФ по вопросам
Военно‑морского флота. Награжден орденом Красной Звезды, орденом «За
службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, многими медалями. Женат,
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ отреагировали довольно оперативно, хотя сообщили об этом в трехстрочном телеграфном режиме. В этот же день умер заслуженный тренер России, воспитавший многих известных дзюдоистов, Анатолий Рахлин. И ТВ, и газеты, и Сеть уделили этому факту несравнимо больше внимания, что, в общем-то, понятно: Анатолий Соломонович - тренер российского Президента Владимира Путина в его юношеские годы. По этому поводу, конечно, Владимир Владимирович выразил глубокие соболезнования родным, высказал им слова утешения на похоронах, в которых участвовал лично. Об этом, естественно, СМИ, в первую очередь центральные, не могли не сообщить…
О смерти адмирала Сучкова они сообщили не просто телетайпно-коротко, а, как это сегодня в масс-медиа принято, в соответствующем им стиле. Хотя в несколько строк сложно вложить большой объем информации, тем не менее, подтекст публикаций был очевиден. Прочитав их, обыватель, не шибко осведомленный в биографии Г. Сучкова и происходивших коллизий на его служебном пути, узнал о нем: адмирал стал командующим Северным флотом после гибели АПРК "Курск"; был снят с должности и осужден за гибель АПЛ К-159; в последнее время проходил по "делу" о лоббировании вопросов ремонта торпед для Российского флота. Эта информация, в общем-то соответствует части того, что действительно происходило, но это - лишь несколько страниц большого жизненного тома, хранящего теперь уже завершенную биографию этого Человека, Моряка, Патриота России и ее Флота.
ВООБЩЕ-ТО объем биографии конкретного человека можно представить по-разному - как по ее структуре, содержанию, так и объему. Если описать ее применительно к Г. Сучкову, то ее рамки очень кратко можно определить следующими жизненными вехами.
Окончил Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе (1964-1969), Высшие специальные офицерские классы ВМФ (1977-1978), Военно-морскую академию им. Маршала Советского Союза А.А. Гречко (1981-1983), курсы при Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил в 1994 году.
Службу проходил командиром торпедной группы (1969-1970), командиром БЧ-3 (1970-1972), помощником командира, старшим помощников командира подводной лодки (1972-1977), командиром подводных лодок (1978-1985), в том числе Б-105 (10 октября 1978 - 9 июня 1980), Б-4 (9 июня 1980 - август 1981), начальником штаба (октябрь-декабрь 1985), командиром (декабрь 1985 - ноябрь 1988) 42-й бригады подводных лодок. Затем - начальник штаба (ноябрь 1988 - февраль 1992), командир (февраль 1992 - декабрь 1994) 4-й Краснознаменной ордена Ушакова I степени эскадры подводных лодок Северного флота, 1-й заместитель командующего Черноморским флотом (29 декабря 1994 - 19 июля 2001), командующий Тихоокеанским флотом (19 июля - 4 декабря 2001), командующий Северным флотом (4 декабря 2001 - 11 сентября 2003). С апреля 2005 г. - советник министра обороны России. Действительный государственный советник Российской Федерации III класса (2008). С декабря 2007 г. - президент Международной ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ и подводников. Награжден орденами Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, Орденом Дружбы. Почетный гражданин гор. Полярный.
Как у любого офицера, военного моряка служба Геннадия Александровича Сучкова была насыщена множеством событий, больших и малых дел. Как и большинство флотских командиров жизнь его не баловала - были взлеты и падения, погружения и всплытия, уверенный ход прямым курсом и посадки на мели. И хотя на погоны подводника Сучкова "сели" три "мухи" - адмиральских звезды, что по нынешним временам - достижение пика службы офицером флота, тем не менее, к звездам этим он не просто шел через тернии, а преодолевал их с потом, кровью, растрачивая свои нервы, силы, не пряча в кубышку ресурсы своего, как и каждого из нас, небеспредельного здоровья…
ШИРОКАЯ ОБЫВАТЕЛЬСКАЯ ПУБЛИКА знает в основном лишь то, что командующим Северным флотом Г. Сучков был назначен вместо адмирала Вячеслава Попова, снятого с этой должности после расследования обстоятельств гибели атомной подводной лодки "Курск" в 2000 году. Но самым резонансным из публикаций о нем стало "дело Сучкова", открытое после гибели на Северном флоте 30 августа 2003 года вблизи острова Кильдин АПЛ К-159. Точнее, не атомохода как такового, а его корпуса. При этом, что трагично, погибли люди - 9 человек…
Атомоход К-159, находившийся во флотском строю с 1963 года, в 1989-м был выведен из его состава. После отстоя в пункте временного хранения лодку решили отбуксировать на утилизацию, по пути она и затонула. Естественно, командующего привлекли к ответственности, ведь такая фигура на флоте отвечает за всё. Правда, "дело Сучкова" приняло масштабы, в наше, да и в другие времена, несвойственные для подобного рода даже трагических случаев. Судили командующего флотом. Лично. Подобного рода дел ни до, ни после этого не было, хотя люди гибли и в большем количестве, к примеру, на том же "Курске" погибло 118 человек (оговорюсь - в данном, да и других случаях, когда гибнут люди, количественные показатели - не аргумент, но всё же…).
Почему командующего флотом "полного" адмирала Г. Сучкова судили, посадив в зале военного трибунала в "клетку", а с другими военными и другими начальниками подобного не происходило? Ответ на этот вопрос занял бы сотни страниц, да и нынче затрагивать эту тему, думается, не время и не место. Тем не менее, отметим: в этом "деле", как в фокусе, сошлись вполне определенные обстоятельства, вина конкретных лиц, элементы случайности, "человеческий фактор" и многое другое, в том числе и "дух времени", когда многое, в том числе в Армии и на Флоте, было выставлено на продажу. Из состава флота тогда были выведены и проданы за рубеж практически все советские авианосцы и вертолетоносцы (остался лишь "Адмирал Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов"), сотни кораблей и подводных лодок всех классов и проектов, построенных за последние полвека, вспомогательные суда и многое другое, что составляло основу оборонной мощи страны и систему ее безопасности на море. В этих процессах, носивших явно коммерческий характер с целью обогащения, в том числе конкретных военачальников, участвовали западные советники, ученые и "фирмачи". Был создан многоступенчатый, многослойный шестерёнчатый механизм, под жернова которого и попал Г. Сучков. К тому же, в тот момент, когда другой ответчик свой роток закрыл бы на замок, Геннадий Александрович счел нужным не прикусить язык, а высказать своё мнение. Реакция начальника Генштаба генерала армии А. Квашнина была резкой, свое слово вставил и Главком ВМФ адмирал флота В. Куроедов, который тогда стоял наверху "утилизационной" пирамиды некогда крупнейшего в мире атомного подводного флота…
11 сентября 2003 года указом Президента России адмирал Г. Сучков был временно отстранен от командования Северным флотом на период следствия по факту гибели АПЛ К-159. 18 мая 2004 года военный суд Североморска приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года по обвинению в халатности, повлёкшей гибель членов экипажа атомной подводной лодки К-159. Подчеркнем особо: своей вины адмирал не признал. В сентябре 2004 года Верховный суд РФ, рассмотрев кассационную жалобу Сучкова, оставил приговор в силе.
В конце мая 2004 года Сучков был окончательно уволен с должности командующего Северным флотом. При этом, что показательно, в начале июня при представлении руководящему составу Северного флота нового командующего министр обороны РФ Сергей Иванов выразил благодарность Сучкову за руководство флотом, уже осуждённому к тому моменту. Иванов выразил надежду и уверенность, что Геннадий Сучков останется служить в Вооруженных Силах. Так и произошло.
С СЕРЕДИНЫ АПРЕЛЯ 2005 года адмирал Г. Сучков - советник министра обороны РФ Сергея Иванова. Главный военный прокурор РФ Александр Савенков в июне 2005 года заявил, что "назначение Сучкова в апреле этого года советником министра обороны - это факт, абсолютно не отвечающий задачам правосудия". При этом С. Иванов заявил, что Г. Сучков был назначен на должность советника министра после консультаций с А. Савенковым. Отметим: оставался Г. Сучков советником и при министрах А. Сердюкове и С. Шойгу. Этот факт прямо свидетельствует о том, что в "деле Сучкова" присутствовали как субъективный фактор, так и сложившаяся на тот момент конъюнктура. Скорее всего, теперь, после смерти Геннадия Александровича, в этой связи появится новая информация…
Конечно, Геннадий Александрович стремился отстоять свою честь и защитить своё имя не только официальным, юридическим путем. Как человек социально активный, имеющий авторитет у общественности и СМИ, он высказывал свое мнение по целому ряду актуальных для ВМФ страны проблем. В частности, в одном из его интервью сообщалось о фактической ликвидации стратегической ракетной системы морского базирования "Тайфун". Ответственность за это адмирал возложил на Главкома ВМФ В. Куроедова. В этих интервью Г. Сучков, например, сообщал, что Россия практически лишилась стратегической ракетной системы морского базирования "Тайфун", базирующейся в Западной Лице 18-й дивизии, в составе которой на тот момент осталось лишь три тяжелых подводных крейсера стратегического назначения проекта 941 ("Архангельск", "Северсталь" и находящийся на тот момент на модернизации "Дмитрий Донской"). Реакция руководства ВМФ была весьма оперативной: сделанные адмиралом выводы о боеготовности тяжелых атомных подводных крейсеров стратегического назначения были официально опровергнуты (хотя, что опровергать? - так и было на самом деле), названы "совершенным вымыслом". Но о каком "вымысле" шла речь? Заявив о развале Российского военного флота, Сучков сказал: из трех лодок системы "Тайфун" в составе ВМФ лишь одна - "Северсталь" - еще имеет 10 давно снятых с производства ракет РСМ-52. Ни лодка "Архангельск", с борта которой Президент В. Путин наблюдал в феврале 2004 г. неудачный пуск ракеты РСМ-54, ни спущенная на воду после ремонта в 2003 году лодка "Дмитрий Донской" ракет не несли.
Проблема, по словам Сучкова, была в том, что Московский институт теплотехники так и не довел новую морскую ракету "Булава", которой планировалось вооружить "Дмитрия Донского" и строящиеся в Северодвинске две новые лодки типа "Юрий Долгорукий", даже до стадии опытного образца. "Архангельск" и "Северсталь" стояли на приколе и давно не выходили на боевое дежурство. Об этом и многом другом Г. Сучков доложил на личном приеме Верховному Главнокомандующему.
Напомним: решение о создании "Булавы" было принято в 1998 году после трех неудачных испытаний ракеты "Барк" разработки Миасского КБ имени Макеева. Тогда на "Булаву" уже потратили свыше 15 млрд. руб. и продолжали тратить каждый год еще по несколько миллиардов, благодаря чему она стала самой дорогостоящей программой в Гособоронзаказе. Тогда было неясно, когда этот проект будет доведен до конца.
Результат заявлений Г. Сучкова и официальной реакции Главкомата ВМФ кое-кого удивил: адмирал Г. Сучков стал одним из кураторов программы по "доводке до ума" "Булавы" и приеме ее на вооружение. Занимался он и другими делами, в том числе имеющими самое непосредственное отношение к разрешению проблем Черноморского флота…
Около полугода назад имя адмирала вновь замелькало в прессе в связи с уголовным делом, возбужденным по факту незаконных поставок комплектующих для торпед. Г. Сучкову инкриминировали лоббирование интересов фирмы, которая якобы с нарушениями поставляла комплектующие для торпед в Россию из Казахстана. Конечно, новые обвинения, переживания по поводу других, в т.ч. житейских проблем, не могли не сказаться на здоровье адмирала…
У ЛЮБОЙ БОЛЕЗНИ есть диагноз, а у больного - эпикриз, в котором в случае летального исхода указывается причина смерти. Не раскрывая врачебных тайн, отметим: у подводника Сучкова был выработан ресурс аккумуляторных батарей. Их энергия расходовалась в автономках, при повседневной работе с личным составом, во взаимоотношениях с "терпеливыми" подчиненными и "чуткими" начальниками, при "преодолении тягот и лишений флотской службы" в "прочном корпусе" и вне его…
Свои силы и нервы Г. Сучков тратил, не откладывая дела "на потом" и "на завтра". Человек искренний и, порой, увлекающийся, он зачастую мгновенно принимал решения и действовал без оглядки. При этом не кривил душой и старался не рубить сплеча.
Характеризуя адмирала, можно было бы назвать ряд его качеств, примечательных сторон, достоинств и недостатков (у кого их нет?). Но, говоря кратко, следовало бы сказать: он не был похож на других. Возможно поэтому иной раз, как говорится, приходился не ко двору. Не знаю, как в другие периоды жизни, но особенно рельефно это проявилось в период его службы на Черноморском флоте.
ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ командующего Черноморским флотом, который остро переживал процесс флотораздела, вице-адмирал Г. Сучков был назначен в конце 1994 года. На этой хлопотной должности он сменил вице-адмирала Виталия Петровича Ларионова, в свое время также командовавшего 4-й эскадрой подводных лодок Северного флота.
В должности 1-го зама командующего Г. Сучков прослужил почти семь лет, что "зашкаливало" за существовавшие и раньше, и, тем более, в наше время временные параметры. Сучкова, как минимум, дважды рассматривали на должность командующего Черноморским флотом, но… не складывалось, "звезды не сходились", в том числе по причине пресловутого "субъективного фактора". Кое-кто стал даже поговаривать, что у вице-адмирала, перешагнувшего через свой 50-летний рубеж, уже нет перспектив добраться до мостика флотского флагмана. Однако Судьба распорядилась иначе - в июле 2001 года состоялось долгожданное назначение, Сучков стал командующим ТОФ. Правда, всего на полгода.
Как оказалось, в Российском флоте, обескровленном в 90-х, к началу "нулевых" оказалась очень короткой "скамейка запасных" на высокие флотские посты. Можно сказать, новым назначением Сучкова был создан прецедент: командующий ТОФ стал командовать Северным флотом. Таким образом, время и флотская действительность доказали кредитоспособность адмирала, который был востребован там, где прошла основная часть его службы. Однако черноморское семилетие, как представляется, стало важнейшим периодом его жизни - Геннадий Александрович Сучков находился на острие процесса раздела Черноморского флота и определения его судьбы. По своей должности и душевным привязанностям, складу характера он боролся за то, чтобы сохранить флот для России и объективно - для Украины. Чтобы из флотораздела флот вышел с наименьшими потерями.
К сожалению, о его деятельности в тот судьбоносный для флота период сказано и написано немного - все-таки он был "вторым лицом" на ЧФ, а на виду, что, в общем-то, справедливо - "первые лица". Тем не менее, его деятельность на этом поприще следует оценить по достоинству. Особенно с учетом того, что Г. Сучкову пришлось служить под началом трех командующих - Э. Балтина, В. Кравченко и В. Комоедова - людей достойных, уважаемых, но очень разных, отличающихся друг от друга. К тому же, в определенный период под начало 1-го зама попали флотские структуры, ранее не имевшие по службе к нему отношения. Г. Сучков стал не только командиром, но и "политработником", проявив свои "комиссарские" качества, - он стал руководить офицерами-воспитателями, заниматься перманентно идущими выборами, взаимодействовать с общественностью. К нему бесконечно шли ходоки от флотских профсоюзов, казаков, пророссийских организаций, от деятелей культуры и образования… Развитие шефских связей с российскими регионами, в том числе "лужковской" Москвой, строительство "московской" школы, домов для черноморцев от Правительства Москвы, создание Филиала МГУ, поддержка флотских журналистов, артистов, спортсменов, постоянная забота о единственной боевой черноморской подлодке "Алроса"… Это перечисление можно долго не заканчивать… Причем, следует особо отметить: за какое бы дело ни брался Сучков, он относился к нему не просто ответственно, а заинтересованно и искренне. Потому, перейдя на другие флоты и должности, уже будучи в Москве, адмирал не просто не забывал о черноморцах, но и всячески, находясь в курсе всех дел и проблем, помогал им. Во многом благодаря его поддержке и помощи удалось сохранить флотские структуры и подразделения (в том числе в гуманитарной сфере) во времена обретения Вооруженными Силами "нового облика" по-сердюковски.
Увы, с уходом от нас Геннадия Александровича Сучкова в мир иной в Москве на один "черноморский штык" стало меньше. Но, слава Богу, что еще остались "штыки", точнее, "орудия главного калибра" в лице председателя Комитета по обороне Госдумы России адмирала Владимира Петровича Комоедова и советника начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России адмирала Игоря Владимировича Касатонова. В их поле зрения сегодня постоянно находится комплекс флотских вопросов и севастопольских проблем.
К слову, И. Касатонов оказался чуть ли не единственным флотским военачальником, поддержавшим Г. Сучкова в тяжелые месяцы его судебного преследования и самого суда. Игорь Владимирович работал рядом с Г. Сучковым последние шесть лет, поддерживал Геннадия Александровича после перенесенной им операции до его самого последнего, смертного часа…
В эти скорбные дни по поводу ухода адмирала Геннадия Александровича Сучкова в его последнее плавание будут сказаны памятные слова, прозвучат воспоминания, будут напечатаны некрологи. Наверное, о нем будет написано и после этих дней. Уж точно его имя, уже вписанное в историю Военно-Морского Флота, не будет предано забвению. Ну и, конечно, его образ сохранит Память - Адмирала, лицо которого обветрено, как скалы, а волосы - сплав серебра и платины. Моряка, остававшегося с Флотом до конца. До самого конца, до жизненного предела, до последней черты…
| Добавить коментарий |