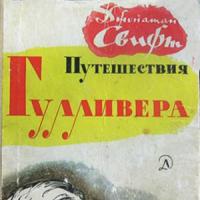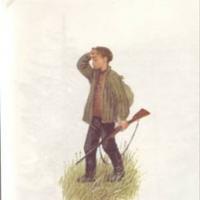Границы литосферных плит. Современные зоны субдукции, их главные типы Зоны субдукции
В классическом варианте субдукция реализуется в случае столкновения двух океанических, или океанической и континентальной плит. Однако, в последние десятилетия выявлено, что при коллизии континентальных литосферных плит, также имеет место поддвиг одной литосферной плиты под другую, это явление получило название континентальной субдукции . Но при этом не происходит погружения ни одной из плит в мантию из-за малой плотности континентальной коры. В результате происходит скучивание и нагромождение тектонических пластин с образованием мощных горных сооружений. Классический пример - Гималаи .
Согласно теории тектоники плит механизм субдукции (сокращения и разрушения океанической коры) компенсируется спредингом - механизмом формирования молодой океанической коры в срединно-океанических хребтах: Объем поглощаемой в зонах субдукции океанской коры равен объему коры, нарождающейся в зонах спрединга. В то же время, в зонах субдукции происходит постоянное наращивание континентальной коры за счет аккреции, т. е. сдирания и интенсивного смятия осадочного чехла с погружающейся плиты. Разогрев погружающейся коры является также причиной широкого развития вулканизма вдоль активных континентальных окраин. Наиболее известно в этом плане Тихоокеанское огненное кольцо . Масштабное поглощение океанической коры по периферии Тихого океана указывает на процесс сокращения (закрытия) этого древнейшего из ныне существующих океанических бассейнов планеты. Подобные процессы имели место и в прошлом. Так, древний океан Тетис начал сокращаться с мезозоя и к настоящему времени прекратил своё существование с образованием остаточных бассейнов, известных теперь как Средиземное, Черное, Азовское, Каспийское моря.
Наиболее известные зоны субдукции находятся в Тихом океане : Японские острова , Курильские острова , Камчатка , Алеутские острова , побережье Северной Америки , побережье Южной Америки . Также зонами субдукции являются острова Суматра и Ява в Индонезии , Антильские острова в Карибском море , Южные Сандвичевы острова , Новая Зеландия и др.
Классификации зон субдукции
Выделяется 4 типа зон субдукции по структурным признакам :
- Андский
- Зондский;
- Марианский;
- Японский;
Зона субдукции андского (андийского) типа - зона, которая формируется там, где молодая океанская литосфера с большой скоростью и под пологим углом (около 35-40º к горизонту) пододвигается под континент. Латеральный структурный ряд от океана к континенту включает в себя: краевой вал - жёлоб - береговой хребет (иногда подводное поднятие или террасу) - фронтальный бассейн (продольную долину) – главный хребет (вулканический) – тыловой бассейн (предгорный прогиб). Характерен для восточного побережья Тихого океана.
Зона субдукции зондского типа - зона, где происходит пододвигание древней океанской литосферы, уходящей на глубину под крутым углом под утоненную континентальную кору, поверхность которой находится в основном ниже уровня океана. Латеральный структурный ряд включает в себя: краевой вал – жёлоб – невулканическую (внешнюю) островную дугу – преддуговой бассейн (прогиб) – вулканическую (внутреннюю) дугу – задуговой бассейн (краевое (окраинное море)). Внешняя дуга – это либо аккреционная призма , либо выступ фундамента висячего крыла зоны субдукции.
Зона субдукции марианского типа
- зона, формирующаяся при пододвигании двух участков океанской литосферы. Латеральный структурный ряд включает в себя: краевой вал – жёлоб (терригенного материала довольно мало) – береговой хребет, невулканическую дугу – преддуговой бассейн (в качестве фронтального) – энсиматическую вулканическую дугу – задуговой бассейн (или междуговой в качестве тылового на утоненной континентальной или новообразованной океанской коре).
 Зона субдукции японского типа
- зона пододвигания океанской литосферы под энсиалическую островную дугу. Латеральный структурный ряд включает в себя: краевой вал – жёлоб – береговой хребет (иногда подводное поднятие или террасу) – фронтальный бассейн (продольную долину) – главный хребет (вулканический) – задуговой бассейн (краевое, окраинное море) с новообразованной корой океанского или субокеанского типа.
Зона субдукции японского типа
- зона пододвигания океанской литосферы под энсиалическую островную дугу. Латеральный структурный ряд включает в себя: краевой вал – жёлоб – береговой хребет (иногда подводное поднятие или террасу) – фронтальный бассейн (продольную долину) – главный хребет (вулканический) – задуговой бассейн (краевое, окраинное море) с новообразованной корой океанского или субокеанского типа.
Перечисленные типы зон субдукции часто по морфологическому признаку условно объединяют в 2 группы:
- Восточно-Тихоокеанская - сюда входит зона андского типа. Характерно наличие активной континентальной окраины.
- Западно-Тихоокеанская - сюда входят остальные типы зон субдукции. Характерно развитие в висячем краю вулканической островной дуги.
Основные структурные элементы
В поперечном сечении зон субдукции Западно-Тихоокеанского типа выделяются:
- глубоководный жёлоб
- преддуговый склон
Глубоководный жёлоб
Расстояние от оси жёлоба до вулканического фронта - 100-150 км (в зависимости от угла наклона зоны субдукции, на активных континентальных окраинах расстояние достигает 350 км). Это расстояние соответствует глубине погружения слэба в 100-150 км, где начинается магмообразование. Ширина зоны вулканизма около 50 км, при общей ширине всей зоны тектонической и магматической активности 200-250 км (на активных континентальных окраинах до 400-500 км).
Преддуговый склон
Преддуговый склон включает 2 основных элемента:
- Аккреционная призма
- Преддуговая терраса
Субдукция и магматизм
Значение
См. также
Напишите отзыв о статье "Зона субдукции"
Примечания
Ссылки
Отрывок, характеризующий Зона субдукции
Пьер замечал, как после каждого попавшего ядра, после каждой потери все более и более разгоралось общее оживление.Как из придвигающейся грозовой тучи, чаще и чаще, светлее и светлее вспыхивали на лицах всех этих людей (как бы в отпор совершающегося) молнии скрытого, разгорающегося огня.
Пьер не смотрел вперед на поле сражения и не интересовался знать о том, что там делалось: он весь был поглощен в созерцание этого, все более и более разгорающегося огня, который точно так же (он чувствовал) разгорался и в его душе.
В десять часов пехотные солдаты, бывшие впереди батареи в кустах и по речке Каменке, отступили. С батареи видно было, как они пробегали назад мимо нее, неся на ружьях раненых. Какой то генерал со свитой вошел на курган и, поговорив с полковником, сердито посмотрев на Пьера, сошел опять вниз, приказав прикрытию пехоты, стоявшему позади батареи, лечь, чтобы менее подвергаться выстрелам. Вслед за этим в рядах пехоты, правее батареи, послышался барабан, командные крики, и с батареи видно было, как ряды пехоты двинулись вперед.
Пьер смотрел через вал. Одно лицо особенно бросилось ему в глаза. Это был офицер, который с бледным молодым лицом шел задом, неся опущенную шпагу, и беспокойно оглядывался.
Ряды пехотных солдат скрылись в дыму, послышался их протяжный крик и частая стрельба ружей. Через несколько минут толпы раненых и носилок прошли оттуда. На батарею еще чаще стали попадать снаряды. Несколько человек лежали неубранные. Около пушек хлопотливее и оживленнее двигались солдаты. Никто уже не обращал внимания на Пьера. Раза два на него сердито крикнули за то, что он был на дороге. Старший офицер, с нахмуренным лицом, большими, быстрыми шагами переходил от одного орудия к другому. Молоденький офицерик, еще больше разрумянившись, еще старательнее командовал солдатами. Солдаты подавали заряды, поворачивались, заряжали и делали свое дело с напряженным щегольством. Они на ходу подпрыгивали, как на пружинах.
Грозовая туча надвинулась, и ярко во всех лицах горел тот огонь, за разгоранием которого следил Пьер. Он стоял подле старшего офицера. Молоденький офицерик подбежал, с рукой к киверу, к старшему.
– Имею честь доложить, господин полковник, зарядов имеется только восемь, прикажете ли продолжать огонь? – спросил он.
– Картечь! – не отвечая, крикнул старший офицер, смотревший через вал.
Вдруг что то случилось; офицерик ахнул и, свернувшись, сел на землю, как на лету подстреленная птица. Все сделалось странно, неясно и пасмурно в глазах Пьера.
Одно за другим свистели ядра и бились в бруствер, в солдат, в пушки. Пьер, прежде не слыхавший этих звуков, теперь только слышал одни эти звуки. Сбоку батареи, справа, с криком «ура» бежали солдаты не вперед, а назад, как показалось Пьеру.
Ядро ударило в самый край вала, перед которым стоял Пьер, ссыпало землю, и в глазах его мелькнул черный мячик, и в то же мгновенье шлепнуло во что то. Ополченцы, вошедшие было на батарею, побежали назад.
– Все картечью! – кричал офицер.
Унтер офицер подбежал к старшему офицеру и испуганным шепотом (как за обедом докладывает дворецкий хозяину, что нет больше требуемого вина) сказал, что зарядов больше не было.
– Разбойники, что делают! – закричал офицер, оборачиваясь к Пьеру. Лицо старшего офицера было красно и потно, нахмуренные глаза блестели. – Беги к резервам, приводи ящики! – крикнул он, сердито обходя взглядом Пьера и обращаясь к своему солдату.
– Я пойду, – сказал Пьер. Офицер, не отвечая ему, большими шагами пошел в другую сторону.
– Не стрелять… Выжидай! – кричал он.
Солдат, которому приказано было идти за зарядами, столкнулся с Пьером.
– Эх, барин, не место тебе тут, – сказал он и побежал вниз. Пьер побежал за солдатом, обходя то место, на котором сидел молоденький офицерик.
Одно, другое, третье ядро пролетало над ним, ударялось впереди, с боков, сзади. Пьер сбежал вниз. «Куда я?» – вдруг вспомнил он, уже подбегая к зеленым ящикам. Он остановился в нерешительности, идти ему назад или вперед. Вдруг страшный толчок откинул его назад, на землю. В то же мгновенье блеск большого огня осветил его, и в то же мгновенье раздался оглушающий, зазвеневший в ушах гром, треск и свист.
Пьер, очнувшись, сидел на заду, опираясь руками о землю; ящика, около которого он был, не было; только валялись зеленые обожженные доски и тряпки на выжженной траве, и лошадь, трепля обломками оглобель, проскакала от него, а другая, так же как и сам Пьер, лежала на земле и пронзительно, протяжно визжала.
Пьер, не помня себя от страха, вскочил и побежал назад на батарею, как на единственное убежище от всех ужасов, окружавших его.
В то время как Пьер входил в окоп, он заметил, что на батарее выстрелов не слышно было, но какие то люди что то делали там. Пьер не успел понять того, какие это были люди. Он увидел старшего полковника, задом к нему лежащего на валу, как будто рассматривающего что то внизу, и видел одного, замеченного им, солдата, который, прорываясь вперед от людей, державших его за руку, кричал: «Братцы!» – и видел еще что то странное.
Но он не успел еще сообразить того, что полковник был убит, что кричавший «братцы!» был пленный, что в глазах его был заколон штыком в спину другой солдат. Едва он вбежал в окоп, как худощавый, желтый, с потным лицом человек в синем мундире, со шпагой в руке, набежал на него, крича что то. Пьер, инстинктивно обороняясь от толчка, так как они, не видав, разбежались друг против друга, выставил руки и схватил этого человека (это был французский офицер) одной рукой за плечо, другой за гордо. Офицер, выпустив шпагу, схватил Пьера за шиворот.
Несколько секунд они оба испуганными глазами смотрели на чуждые друг другу лица, и оба были в недоумении о том, что они сделали и что им делать. «Я ли взят в плен или он взят в плен мною? – думал каждый из них. Но, очевидно, французский офицер более склонялся к мысли, что в плен взят он, потому что сильная рука Пьера, движимая невольным страхом, все крепче и крепче сжимала его горло. Француз что то хотел сказать, как вдруг над самой головой их низко и страшно просвистело ядро, и Пьеру показалось, что голова французского офицера оторвана: так быстро он согнул ее.
Пьер тоже нагнул голову и отпустил руки. Не думая более о том, кто кого взял в плен, француз побежал назад на батарею, а Пьер под гору, спотыкаясь на убитых и раненых, которые, казалось ему, ловят его за ноги. Но не успел он сойти вниз, как навстречу ему показались плотные толпы бегущих русских солдат, которые, падая, спотыкаясь и крича, весело и бурно бежали на батарею. (Это была та атака, которую себе приписывал Ермолов, говоря, что только его храбрости и счастью возможно было сделать этот подвиг, и та атака, в которой он будто бы кидал на курган Георгиевские кресты, бывшие у него в кармане.)
Французы, занявшие батарею, побежали. Наши войска с криками «ура» так далеко за батарею прогнали французов, что трудно было остановить их.
С батареи свезли пленных, в том числе раненого французского генерала, которого окружили офицеры. Толпы раненых, знакомых и незнакомых Пьеру, русских и французов, с изуродованными страданием лицами, шли, ползли и на носилках неслись с батареи. Пьер вошел на курган, где он провел более часа времени, и из того семейного кружка, который принял его к себе, он не нашел никого. Много было тут мертвых, незнакомых ему. Но некоторых он узнал. Молоденький офицерик сидел, все так же свернувшись, у края вала, в луже крови. Краснорожий солдат еще дергался, но его не убирали.
Пьер побежал вниз.
«Нет, теперь они оставят это, теперь они ужаснутся того, что они сделали!» – думал Пьер, бесцельно направляясь за толпами носилок, двигавшихся с поля сражения.
Но солнце, застилаемое дымом, стояло еще высоко, и впереди, и в особенности налево у Семеновского, кипело что то в дыму, и гул выстрелов, стрельба и канонада не только не ослабевали, но усиливались до отчаянности, как человек, который, надрываясь, кричит из последних сил.
Главное действие Бородинского сражения произошло на пространстве тысячи сажен между Бородиным и флешами Багратиона. (Вне этого пространства с одной стороны была сделана русскими в половине дня демонстрация кавалерией Уварова, с другой стороны, за Утицей, было столкновение Понятовского с Тучковым; но это были два отдельные и слабые действия в сравнении с тем, что происходило в середине поля сражения.) На поле между Бородиным и флешами, у леса, на открытом и видном с обеих сторон протяжении, произошло главное действие сражения, самым простым, бесхитростным образом.
Сражение началось канонадой с обеих сторон из нескольких сотен орудий.
Потом, когда дым застлал все поле, в этом дыму двинулись (со стороны французов) справа две дивизии, Дессе и Компана, на флеши, и слева полки вице короля на Бородино.
От Шевардинского редута, на котором стоял Наполеон, флеши находились на расстоянии версты, а Бородино более чем в двух верстах расстояния по прямой линии, и поэтому Наполеон не мог видеть того, что происходило там, тем более что дым, сливаясь с туманом, скрывал всю местность. Солдаты дивизии Дессе, направленные на флеши, были видны только до тех пор, пока они не спустились под овраг, отделявший их от флеш. Как скоро они спустились в овраг, дым выстрелов орудийных и ружейных на флешах стал так густ, что застлал весь подъем той стороны оврага. Сквозь дым мелькало там что то черное – вероятно, люди, и иногда блеск штыков. Но двигались ли они или стояли, были ли это французы или русские, нельзя было видеть с Шевардинского редута.
Солнце взошло светло и било косыми лучами прямо в лицо Наполеона, смотревшего из под руки на флеши. Дым стлался перед флешами, и то казалось, что дым двигался, то казалось, что войска двигались. Слышны были иногда из за выстрелов крики людей, но нельзя было знать, что они там делали.
Наполеон, стоя на кургане, смотрел в трубу, и в маленький круг трубы он видел дым и людей, иногда своих, иногда русских; но где было то, что он видел, он не знал, когда смотрел опять простым глазом.
Он сошел с кургана и стал взад и вперед ходить перед ним.
Изредка он останавливался, прислушивался к выстрелам и вглядывался в поле сражения.
Не только с того места внизу, где он стоял, не только с кургана, на котором стояли теперь некоторые его генералы, но и с самых флешей, на которых находились теперь вместе и попеременно то русские, то французские, мертвые, раненые и живые, испуганные или обезумевшие солдаты, нельзя было понять того, что делалось на этом месте. В продолжение нескольких часов на этом месте, среди неумолкаемой стрельбы, ружейной и пушечной, то появлялись одни русские, то одни французские, то пехотные, то кавалерийские солдаты; появлялись, падали, стреляли, сталкивались, не зная, что делать друг с другом, кричали и бежали назад.
С поля сражения беспрестанно прискакивали к Наполеону его посланные адъютанты и ординарцы его маршалов с докладами о ходе дела; но все эти доклады были ложны: и потому, что в жару сражения невозможно сказать, что происходит в данную минуту, и потому, что многие адъютапты не доезжали до настоящего места сражения, а передавали то, что они слышали от других; и еще потому, что пока проезжал адъютант те две три версты, которые отделяли его от Наполеона, обстоятельства изменялись и известие, которое он вез, уже становилось неверно. Так от вице короля прискакал адъютант с известием, что Бородино занято и мост на Колоче в руках французов. Адъютант спрашивал у Наполеона, прикажет ли он пореходить войскам? Наполеон приказал выстроиться на той стороне и ждать; но не только в то время как Наполеон отдавал это приказание, но даже когда адъютант только что отъехал от Бородина, мост уже был отбит и сожжен русскими, в той самой схватке, в которой участвовал Пьер в самом начале сраженья.
Условия, определяющие структурное развитие региона
Различные тектонические структуры развиваются в разных типичных для них режимах тектогенеза. Сам характер режима определяется тектоническими условиями, существующими на данной территории в данный отрезок геологического времени.
Основными показателями тектонических условий являются:
1) величина эндогенной энергии, проявившейся в данном регионе;
2) величина гравитационной неуравновешенности вещества в литосфере.
Белоусов определил основные условия, определяющие структурное развитие региона, к которым относятся:
1) проницаемость литосферы для жидких и газообразных флюидов;
2) формой магматизма, составом лав, объемом лавы;
3) процессами деформации, метаморфизма и гранитизации;
4) контрастностью и степенью интенсивности тектонических движений;
5) соотношения между суммарной амлитудой положительных и отрицательных вертикальных движений;
6) соотношение между вертикальными и горизонтальными движениями.
На границах между океаническим и материковым полушарием расположен самый крупный в мире Тихоокеанский подвижный пояс, его длина составляет приблизительно 56000км. Он делится на западный и восточный Тихоокеанский подвижный пояс.
Материковое полушарие обладает более мозаичным и сложным строением, чем океаническое. Оно состоит из 6 отдельных континентальных массивов, разделяемых 4 океаническими впадинами.
Континентальные массивы образуют 2 группы: западную – Новый свет и восточную – Старый свет.
Новый свет – Северная Америка, Южная Америка, Антарктида - они образуют пояс, протягивающийся в меридианальном направлении.
Старый свет – Евразия, Африка, Австралия.
Восточная граница отделена от западной границы впадиной Атлантического океана. Восточная граница имеет тенденцию к делению на 2 подгруппы: Евроафриканская, Австралоазиатская.
Материки делятся и в широтном направлении: северное и южное полушарие разделены средиземноморским геосинклинальным поясом.
Взаимодействие литосферных плит при встречном движении, т.е. на конвергентных границах, порождает тектонические процессы, которые проникают глубоко в мантию. Эти процессы сложны и многообразны. На тектонических картах эти процессы выражаются зонами тектоно-магматической активности, такими как островные дуги, континентальные окраины андского типа и складчатые горные сооружения.
Различают два главных вида конвергентного взаимодействия литосферных плит: субдукцию и коллизию.
Субдукция развивается там, где на конвергентной границе сходятся континентальная и океаническая кора или океаническая с океанической, и при их встречном движении более тяжелая литосферная плита уходит под другую и затем погружается в мантию.
Коллизия – столкновение литосферных плит, развивается там, где континентальная кора сходится с континентальной их их встречное движение затруднено и компенсируется деформацией литосферы, ее утолщением и образованием горных складчатых систем.
Обдукция – движение на край континентальной коры фрагментов океанической коры. Происходит чрезвычайно редко.
Если постоянно возникает так много нового морского дна, а Земля не расширяется (и существует достаточно доказательств этого), тогда, чтобы компенсировать этот процесс, что‑то на глобальной коре должно разрушаться. Именно это происходит на окраинах большей части Тихого океана. Здесь литосферные плиты сближаются, и на их границах одна из сталкивающихся плит погружается под другую и уходит глубоко внутрь Земли. Такие участки столкновения плит называются зонами субдукции (погружения, подныривания одной плиты под другую); на поверхности Земли они отмечаются глубокими океаническими рвами (желобами) и активными вулканами (рис. 5.4). Грандиозные цепи вулканов, образующие так называемое огненное кольцо, протянувшееся вдоль берегов Тихого океана, – Анды, Алеутские острова, а также вулканы Камчатки, Японии и Марианских островов – все они обязаны своим существованием явлению субдукции.
Рис. 5.4. Схематический поперечный разрез зоны субдукции (верхняя часть, не в масштабе) показывает литосферную плиту, опускающуюся в глубины мантии, и активные вулканы над нею. В нижней части рисунка точками изображены положения очагов землетрясений, зафиксированных под желобом Тонга в юго‑западной части Тихого океана. В совокупности они отмечают расположение погружающейся плиты до глубины приблизительно 700 километров. Отметки на горизонтальной шкале показывают расстояние от желоба. Составлено с частичным использованием рисунка 4‑10 из книги П. Дж. Уилли «Как работает Земля». Изд‑во «Джон Уайли и Сыновья», 1976.
Никто не может точно сказать, как именно начинается субдукция, когда две плиты начинают сближаться, но ключом к их взаимодействию является, по‑видимому, плотность пород. Плотная океаническая кора может подвергнуться субдукции, исчезнув в глубине Земли почти бесследно, в то время как сравнительно легкие континенты всегда остаются на поверхности. Вот почему дно океанов всегда молодо, а континенты стары: морское дно не только непрерывно образуется в разломах океанических хребтов, но и постоянно уничтожается в зонах субдукции. Как мы уже видели, отдельные части континентов имеют возраст почти четыре миллиарда лет, в то время как самые древние части морского дна не старше 200 миллионов лет. Один из первых пропагандистов идеи континентального дрейфа сравнил континенты с пеной, накапливающейся на поверхности кастрюли с кипящим супом, – живое, хотя не сказать, чтобы очень точное сравнение.
Реальность субдукции подтверждается землетрясениями, которые ее сопровождают. Хотя сейсмичность является характерной особенностью всех типов границ между плитами, только зоны субдукции отличаются глубокими землетрясениями, которые происходят на глубине 600 километров или более. Глубокие землетрясения были известны задолго до того, как тектоника плит приобрела популярность. В 1928 году японский сейсмолог К. Вадати сообщил о землетрясениях, происшедших под Японией на глубине нескольких сот километров. Приблизительно через двадцать лет другой геофизик, Хуго Бениоф, показал, что и в других частях света существуют «большие разломы», отмечающиеся частыми землетрясениями, которые погружаются глубоко в мантию из океанских рвов, как бы продолжая их на глубину. Он описал несколько таких разломов, расположенных как вдоль западного побережья Южной Америки, так и на юго‑западе Тихого океана в желобе Тонга. Эти области в то время не были интерпретированы как зоны субдукции и лишь позднее стало ясно, что эти гигантские плоско‑наклонные зоны повышенной сейсмичности точно следуют по пути плит, погружающихся внутрь мантии (рис. 5.4). Землетрясения возникают потому, что погружающиеся в горячую мантию части океанических плит остаются сравнительно холодными, в противоположность окружающим их породам мантии, остаются даже на больших глубинах настолько хрупкими, что в них могут возникать трещины, порождающие землетрясения. Некоторые из самых глубоких землетрясений могут также возникать по той причине, что минералы в погружающихся частях плит становятся неустойчивыми в обстановке больших давлений, которым они там подвергаются, и разрушаются внезапно, образуя более плотные минералы, резко изменяя при этом свой объем.
В противоположность сравнительно спокойным прорывам базальтовой лавы вдоль осей расхождения плит, вулканизм, свойственный зонам субдукции, часто проявляется очень бурно. Хотя эта вулканическая активность Земли и создает потрясающе прекрасные вулканы, как, например, гора Фудзи в Японии, она также вносит свой вклад во множество катастроф, сопровождающих историю Земли. Примерами таких катастроф являются погребение древнего римского города Помпеи под слоем горячего вулканического пепла, выброшенного соседним вулканом Везувий, грандиозное уничтожение всего живого вокруг в результате взрыва вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году и совсем недавно взрыв вулкана Пинатубо на Филиппинских островах в 1991 году. Почему существует вулканизм в зонах субдукции? В главе 2 мы намекнули на возможный ответ: океанические плиты содержат воду. В мощных толщах осадков, накапливающихся на океанском дне, по мере того как оно движется от места своего образования у хребтов к месту своего уничтожения в зонах субдукции, накапливается вода. Кроме того, во время этого долгого путешествия происходит реакция некоторых минералов базальтовой коры с морской водой и образуются другие, водосодержащие минералы. Хотя во время столкновения плит часть этих осадков соскребается с опускающейся плиты и выбрасывается на сушу, другая их часть уносится в мантию на значительные глубины. Во время опускания этих осадков вдоль зоны субдукции большая часть свободной воды, содержащейся в порах между зернами, выжимается увеличившимся давлением и пробивается обратно на поверхность. Но какая‑то ее часть остается, как и вода, связанная в структуре минералов коры. В конце концов увеличивающиеся температура и давление изгоняют из пород и эту воду, и она просачивается в мантию в верхней части зоны субдукции. Именно этот процесс вызывает вулканизм. На тех глубинах, где вода изгоняется из пор и из самих минералов, окружающая мантия уже весьма горяча, а добавление воды понижает температуру плавления пород настолько, что это плавление начинается. Этот принцип должен быть знаком жителям северных городов, которые зимой рассыпают на улицах соль, чтобы понизить температуру плавления (таяния) льда.
Во всех субдукционных зонах Земли активный вулканизм неизбежно возникает приблизительно на одной и той же высоте над опускающейся плитой, а именно – около 150 километров. Такова приблизительно глубина, на которой разрушаются водосодержащие минералы,
освобождая воду, которая способствует плавлению. Характерным для этой обстановки типом пород является андезит, получивший свое название, как вы можете догадаться, по названию горной цепи в Южной Америке (Анды), где эта порода весьма распространена. Лабораторные эксперименты показывают, что андезит представляет собой именно ту породу, образование которой следовало бы ожидать, если породы мантии расплавить в присутствии воды, выделившейся из погрузившейся плиты; эта вода объясняет также взрывной, бурный характер вулканизма, свойственного зонам субдукции. По мере приближения магмы к земной поверхности растворенная в ней вода и другие летучие компоненты в ответ на понижение давления быстро расширяются; это расширение часто имеет характер взрыва.
Многие из самых крупных землетрясений происходят вдоль зон субдукции. Это и не удивительно, если подумать, что происходит в этих областях: два гигантских куска земной коры, каждый толщиной около 100 километров, сталкиваются друг с другом, причем одна плита вталкивается под другую. К несчастью, некоторые районы, расположенные вблизи зон субдукции, очень плотно заселены. Мы можем предсказать со стопроцентной уверенностью, что в таких областях мощные разрушительные землетрясения будут продолжаться; вряд ли это будет большим утешением перед перспективой таких катастрофических событий, как землетрясение в Кобэ в Японии, происшедшее в начале 1995 года.
И все же Земля – это динамичная планета; даже зоны субдукции существуют не вечно, по крайней мере с точки зрения геологического времени. В конце концов они перестают действовать, и где‑нибудь образуются другие. Какие же события могут остановить процесс субдукции?
Чаще всего это столкновение между континентами после того, как океаническая кора, существовавшая между ними, оказывается израсходованной в процессе субдукции. Вспомним, что очень часто литосферные плиты состоят из континентальной и океанической коры. В то время как сама плита, может быть, и безразлична к природе своих пассажиров, этого нельзя сказать о зоне субдукции. Она просто не в состоянии заглотить континентальную кору с ее низкой плотностью. Поэтому, когда океанический бассейн в конце концов закрывается благодаря субдукции, два обломка континентальной коры просто сталкиваются и припаиваются друг к другу; субдукция прекращается. Упрощенный набросок такого процесса показан на рис. 5.5. Он не так уж прост, как можно подумать по приведенному описанию; в типичном случае столкновение между континентами сопровождается мощным вулканизмом, метаморфизмом и горообразованием и занимает очень много времени.
Пожалуй, самым выдающимся примером такого процесса, взятым из недавнего прошлого, является столкновение между Индией и Азией, более подробно описанное в главе 11, в результате которого возникли Гималаи. Когда‑то давным‑давно на том месте, где сейчас располагаются Гималаи, существовала зона субдукции, вдоль которой находящаяся южнее плита погружалась на север под Азию, а между Азией и континентом Индии, который располагался южнее, находился обширный океан. Породы Гималаев и Тибетского плато свидетельствуют, что эта ситуация продолжалась очень долгое время, в течение которого много мелких фрагментов плавучей континентальной коры, перемещенных вместе с этой океанической плитой, прибыло с юга к зоне субдукции и приклеилось к южному краю Азии. Но постепенно дно океана было поглощено зоной субдукции, в результате чего Индия притянулась к северу. Между 50 и 60 миллионами лет назад угол этого континента достиг зоны субдукции и стал прижиматься к Азии. Инерция его движения заставила северную часть Индии проскользнуть под южную часть азиатской плиты, образуя участок континентальной коры толщиной в два раза больше, чем где‑либо еще в мире. Осадки, смытые с окраин двух сближенных континентов еще до их столкновения, вулканические острова, существовавшие вдоль их краев, и породы самих континентов попали в ловушку гигантского столкновения, были смяты в систему параллельных складок, разбиты на блоки системой разломов и метаморфизованы. В результате образовалась самая высокая горная цепь и самое большое плоскогорье на Земле.

Рис. 5.5. Схематический разрез, показывающий, как процесс субдукции может закрыть океанский бассейн и привести к столкновению континенты, образуя огромные горные системы типа Гималаев.
Обширная горная страна Гималаев все еще считается границей плиты, потому что до сих пор существует относительное движение между Азией и Индией. Эта страна пока поднимается; там довольно часты землетрясения. Действительно, землетрясения, снимающие напряжения, возникающие в земной коре, происходят в наши дни уже вдали от зоны столкновения, особенно в Китае, как результат того факта, что части Азии были сжаты и повернуты к востоку в момент, когда обе плиты устремились друг на друга. Однако в конце концов, когда прекратится относительное движение между двумя ранее отделенными друг от друга континентами, Гималаи будут признаны неактивной шовной зоной, находящейся внутри континента. Но когда это произойдет, кое‑чему другому придется отодвинуться, чтобы дать пристанище новой области морского дна, образующейся вдоль океанического хребта, лежащего далеко к югу (рис. 5.2). Проведенные в последние годы исследования морского дна вблизи от Шри‑Ланки показывают, что южнее этого острова, возможно, образуется новая зона субдукции, которая разрешит геометрическую головоломку.
Столкновения континента с континентом, подобные тому, что произвели на свет Гималаи, видимо, происходят регулярно на протяжении геологической истории. Хотя созданные ими высокие горы давно разрушились, следы таких событий можно распознать в древних породах по тому факту, что они образуют характерные длинные полосы сильно метаморфизованных пород, имеющих приблизительно одинаковый возраст. Хорошим примером такой области является провинция Грэнвиль в восточной части Северной Америки (рис. 4.3), которая была, без сомнения, в глубокой древности очень похожа на нынешние Гималаи.
Когда я учился в школе, а с тех пор много воды утекло, в учебнике по географии рассказывалось, что складчатость земной коры, т.е. попросту, горы и долины, получились в результате уменьшения объёма Земли при её охлаждении. Земля представлялась как большое печеное яблоко, которое за счёт усыхания покрылось множеством морщин. И это было очень понятно. Современные теории не отличаются такой наглядностью. Более того, некоторые положения этих теорий выглядят невероятными и вызывает удивление сам факт существования такого мира.Многим ли известно, например, что толщина твердой каменной оболочки нашей планеты, на которой мы строим гигантские небоскребы и копаем глубокие шахты, взрываем бомбы и запускаем ракеты, вполне сравнима с толщиной скорлупы куриного яйца: яичная скорлупа (0.3 - 0.4 мм) составляет порядка 2% радиуса яйца в самом узком месте, тогда как земная кора (8-40 км) - меньше 1% радиуса Земли (6378 км)? Правда, при этом каменная оболочка Земли лежит на довольно вязком расплавленном веществе - верхнем слое земной мантии, которая по мере приближения к центру нагревается ещё больше и становится жидкой (температура ядра Земли предположительно порядка 6000°С).  К сожалению, всё это недоступно для непосредственного исследования и бóльшая часть информации о мантии получена с помощью измерения сейсмических волн, электропроводности и силе тяжести. Более менее изучен только самый верхний слой Земли, литосфера
, толщина которого не превышает 100 - 150 км, (земная кора и часть мантии).
К сожалению, всё это недоступно для непосредственного исследования и бóльшая часть информации о мантии получена с помощью измерения сейсмических волн, электропроводности и силе тяжести. Более менее изучен только самый верхний слой Земли, литосфера
, толщина которого не превышает 100 - 150 км, (земная кора и часть мантии).
Ко всему сказанному следует добавить ещё одну неприятность - мало того, что наша "земная твердь" всего лишь тоненькая корочка гигантского котла кипящей магмы, температура которой, когда она выливается на поверхность, доходит до 1000-1200°С, эта корочка испещрена многочисленными жерлами вулканов и трещинами 1000-километровой длины, которые образуют так называемые "литосферные плиты" . И эти плиты движутся. Они перемещающиеся в пластичном слое верхней мантии относительно друг друга со скоростью порядка 2-3 см в год.
Впервые эту совершенно фантастическую идею - мысль о движении отдельных участков земной коры, высказал немецкий геофизик и метеоролог Альфред Вегенер (1880-1930) в начале прошлого столетия в рамках гипотезы «дрейфа континентов». Но поддержки эта гипотеза в то время не получила. Её возрождение произошло в 1960-х годах, когда в результате исследований рельефа и геологии океанического дна были получены данные, свидетельствующие о процессах расширения (спрединга ) океанической коры и пододвигания одних частей коры под другие (субдукции ). Объединение этих представлений со старой теорией дрейфа материков породило современную теорию тектоники плит, которая стала общепринятой концепцией в науках о Земле. Её основные положения были сформулированы в 1967-68 группой американских геофизиков — У. Дж. Морганом, К. Ле Пишоном, Дж. Оливером, Дж. Айзексом, Л. Сайксом путем развития более ранних (1961-62) идей американских учёных Г. Хесса (H.H.Hess) и Р. Дица (R.S.Dietz) о расширении (спрединге) ложа океанов.
Так, в 1960-х годах, когда начались исследования океанского дна, выяснилось, что по дну Атлантического океана с севера на юг тянется огромная гряда высотой в 2-2.5 км, и дно по обе стороны от нее опускается до 5 км. Причем порода, из которой сложены эти подводные горы, очень разные по возрасту: базальты на вершине гряды молодые, а по обе стороны много старше и притом тем старше, чем дальше от нее. Это открытие заставляло думать, что гряда прикрывает трещину в океанской коре, через которую снизу к вершине всё время выходит поток горячей магмы. Остывая и превращаясь в базальт, эта магма становится плотнее, т.е. тяжелее, и стекает по склону гряды в обе стороны от нее, а на ее место поступает новая порция магмы. Таким образом, магма, выходящая в рифт - трещину расходящихся плит, создает по обе стороны от себя все новые и новые полосы океанской коры (так наз. Срединно-океанический хребет (СОХ) , общая протяженность которых более 70.000 км). В результате кора под океаном непрерывно наращивается и расширяется (спрединг ).
Наиболее убедительным доказательством существования спрединга явились так называемые "полосовые магнитные аномалии" — линейные магнитные аномалии океанической коры, параллельные осям срединных океанических хребтов и расположенные симметрично по отношению к ним. Линейные магнитные аномалии в океанах были обнаружены ещё в 50-х годах при геофизическом изучении Тихого океана. Именно это открытие позволило в 1960-ые годы Хессу и Дицу сформулировать теорию спрединга океанического дна, которая стала основой теории тектоники плит.
В соответствии с теорией спрединга горячее расплавленное мантийное вещество поднимается на поверхность по рифтовым трещинам, раздвигая края рифта и, застывая, наращивает их изнутри. Хесс писал: "Этот процесс несколько отличается от обычного дрейфа материков. Континенты не прокладывают себе путь сквозь океаническое дно под воздействием какой-то неведомой силы, а пассивно плывут в мантийном материале, который поднимается вверх под гребнем хребта и затем распространяется от него в обе стороны."
 Таким образом, на поверхность планеты выходят восходящие конвекционные токи, какие можно наблюдать в кастрюле, где варится молочный кисель или каша. Материк же (в рамках такой аналогии) является пенкой на этом киселе. Но аналогия далеко не полная, так как кипящая масса довольно однородная и в пенке нет трещин, по которым происходит субдукция (если только принудительно не погружать пенку обратно в кипящий кисель).
Таким образом, на поверхность планеты выходят восходящие конвекционные токи, какие можно наблюдать в кастрюле, где варится молочный кисель или каша. Материк же (в рамках такой аналогии) является пенкой на этом киселе. Но аналогия далеко не полная, так как кипящая масса довольно однородная и в пенке нет трещин, по которым происходит субдукция (если только принудительно не погружать пенку обратно в кипящий кисель).
На рисунке справа показана карта дна Атлантического океана. Красным выделена самая молодая часть Срединно-Атлантического хребта. Магма поднимается по трещине вдоль хребта. заполняя расширяющийся промежуток между удаляющимися друг от друга плитами - Северо- и Южно-Американской, с одной стороны (к западу от гряды) и Евразийской и Африканской, с другой стороны - на восток от гряды.
Такие же подводные гряды тянутся по дну других океанов. В Тихом океане наблюдения ученых открыли другую сторону процесса движения плит. Непрерывное прибавление коры в СОХ под Тихим океаном влечет за собой движение Тихоокеанской плиты на запад, в сторону Австралийской плиты, а с востока от СОХ под Южно-Американскую плиту подплывает океанская плита Наска.  И в том месте, где плиты соприкасаются, более тяжелая и плотная океанская плита начинает изгибаться вниз, уползая огромным длинным «языком» под более легкую континентальную плиту, либо слегка приподымая её (Восточно-Тихоокеанское поднятие около Австралии), либо создавая серьёзные напряжения, которые освобождаются в виде извержений вулканов и землетрясений, как это происходит в Андах. Иными словами, Тихоокеанская плита прирастая на востоке компенсирует этот прирост тем, что ее западная сторона все время уходит под литосферу Австралийской плиты, а прирастание плиты Наска, компенсируется её погружением под Южно-Американскую плиту. Это явление называется субдукцией
.
И в том месте, где плиты соприкасаются, более тяжелая и плотная океанская плита начинает изгибаться вниз, уползая огромным длинным «языком» под более легкую континентальную плиту, либо слегка приподымая её (Восточно-Тихоокеанское поднятие около Австралии), либо создавая серьёзные напряжения, которые освобождаются в виде извержений вулканов и землетрясений, как это происходит в Андах. Иными словами, Тихоокеанская плита прирастая на востоке компенсирует этот прирост тем, что ее западная сторона все время уходит под литосферу Австралийской плиты, а прирастание плиты Наска, компенсируется её погружением под Южно-Американскую плиту. Это явление называется субдукцией
.
В настоящее время главные процессы субдукции на Земле происходит по краям Тихоокеанской плиты, и это грандиозное (хотя и невидимое нам явление) сопровождается извержениями и землетрясениями - не случайно они происходят, в основном, по периферии этого океана. А ушедшие в глубину тяжелые базальты океанской коры тонут в астеносфере (иногда опускаясь даже в нижнюю мантию, где проходят переплавку и возвращаются (путем конвекции) обратно в трещины между плитами. Этот процесс занимает около 200 млн лет, поэтому океанская кора не бывает старше этого возраста. С другой стороны, континентальные (легкие) плиты всегда остаются наверху («наплаву»), их состав не меняется, сейсмическая активность очень низкая и поэтому геологи сегодня обнаруживают на Земле скалы возрастом в 3-2.5 млрд лет.

Интересно, что совсем недавно ученые поняли, что уникальная Афарская котловина (Данакильская котловина, Афарский треугольник) — геологическая депрессия на Африканском Роге, одно из немногих мест в мире (известны только два таких места - здесь и в Исландии), где океанические хребты могут быть изучены на суше. Тектоническое движение в котловине (1-2 см в год) приводит к постоянным землетрясениям и образованию щелей на поверхности (на границах плит) до 8 метров. Здесь, на дне огромной кальдеры находится лавовое озеро Эрта Але. Постоянный поток магмы, поднимающийся в кратере из недр Земли продолжается с 1967 года. При этом периодически отсюда изливаются потоки раскалённой лавы и с каждым своим извержением он поднимается всё выше над впадиной Данакиль. Сейчас его высота — уже 613 м, но 3-4 миллиона лет назад он находился под водой. Кстати, на основе палеореконструкции Сибирский континент мигрировал над этим потоком мантийного вещества - над Африканской мантийной провинцией, - 570 млн лет назад, в результате чего родились Сибирские траппы, которые слагают плато Путорана (см. видео в конце статьи).
Предпочтительно смотреть в полноэкранном режиме. Источник - форум Винского .
В современную эпоху более 90 % поверхности Земли покрыто 7 крупнейшими литосферными плитами: Антарктическая, Африканская, Евразийская, Индо-австралийская, Тихоокеанская, Северо-Американская и Южно-Американская плиты. Остальное покрывают более мелкие, такие как Кокос и Карибская плита в районе Центральной Америки, Аравийская плита, Филиппинская и др.

Кроме двух уже названных видов взаимодействия плит: спрединг - расширение, создающее так наз. дивергентные границы, когда плиты движутся в противоположные стороны, и субдукция - пододвигание, конвергентные границы, когда происходит столкновение плит, есть места, где плиты двигаются параллельным курсом, но с разной скоростью. Там возникают трансформные разломы. При этом плиты сталкиваются на время, а затем расходятся, высвобождая много энергии и вызывая сильные землетрясения. Самый известный пример такой границы — разлом Сан-Андреас в Калифорнии, где движутся бок о бок Тихоокеанская и Северо-Американская плиты. Город Сан-Франциско и большая часть бухты Сан-Франциско построены в районе от этого разлома.

Сан Франциско. 1906 год. До и после землетрясения
Этим не ограничиваются виды взаимодействия тектонических плит. Существует ещё один вид, при котором взаимодействуют несколько плит и их движение слишком сложно. Это процессы на многоплиточных границах. Как, например, между Африкой и Европой, где кроме двух основных плит имеется также множество мелких. Их взаимодействие пока мало изучено и прогнозирование их перемещений проблематично.
Первые представления о тектонике плит указывали на то, что вулканизм и сейсмические явления сосредоточены исключительно по границам плит. Однако вскоре стало ясно, что и внутри плит происходят существенные тектонические и магматические процессы. Среди внутриплитных процессов особое место заняли явления долговременного базальтового магматизма, так называемые горячие точки . Другими словами, районы продолжительного вулканизма с выходом большого количества мантийного вещества, магмы. Но в этих точках есть и другая особенность - в некоторых местах планеты они вытянулись цепочкой по одной линии и состоят из вулканов старых, давно потухших, и молодых, активно действующих. Причем действующие находятся на краю всей цепочки. И чем дальше от молодых вулканов отстоят потухшие, тем они старее. Такое ощущение, что под землей есть горелка, которая при перемещении плиты (а плита движется поперек мантийного потока) каждый раз "прожигает" её в новом месте, извергая новый вулкан. Примером такого рода является цепочка вулканов на Гавайских островах. От них на северо-запад идёт подводная гряда бывших вулканов, простирающаяся до Алеутских островов, где Тихоокеанская плита погружается в мантию.
Есть и другие следы, которые оставляют горячие точки. Часто на их месте образовывается кальдера (огромный, до 10-20 км в поперечнике провал в почве) и по мере движения плиты над горячей точкой на поверхности появляется «цепочка» таких кальдер. Особенно наглядно виден след перемещения горячей точки за последние 17 млн лет на карте Йеллоустонского заповедника в США.

Путь Йеллоустонской горячей точки за последние 17 млн лет
Большинство существующих "горячих точек" имеют локальный характер, но известны магматические процессы поистине планетарного масштаба. Это так называемый трапповый магматизм, который в разное время происходил на всех платформах. Траппы (от шведского "trappa" — лестница) — излившиеся в разное время и наслоившиеся один на другой лавовые покровы, которые при врезании в них рек и выветривании образуют ступенчатые склоны. При трапповых извержениях часто нет чётко выраженного кратера и постоянного центра извержений. Лава изливается из многочисленных трещин и заливает пространства, сравнимые с площадью Европы. Так выглядят Деканское плоскогорье в Индии, район Восточной Сибири, почти вся Исландия. Траппы Восточной Сибири занимают площадь порядка 2 миллионов кв. км. Лава изливалась там около 570 миллионов лет назад и длилась, по всей видимости, сотни тысяч лет.

"Горячие точки" мира
Природу такого внутриплитного магматизма объясняют в настоящее время с позиций новой концепции, “тектоники плюмов” , которая хорошо дополняет существующую теорию тектоники плит.
Гипотезу плюмов ("магматических шлейфов", от англ. theory of plumes) высказал в 1971 году американский геофизик Джесон Морган в порядке объяснения существования горячих точек. Плюмом ("шлейфом" - если есть мантия, почему бы не быть шлейфу?) он назвал огромную трубу высокотемпературной магмы, которая зарождается в виде относительно тонкой струи на оболочке земного ядра и поднимается на тысячи км к самому верхнему слою мантии. Упершись в литосферу, этот поток лавы растекается вширь, так что образуется что-то вроде гриба со шляпкой. Места над шляпками таких «грибов» (сегодня считается, что их существует около 20-ти) и есть hot spots, горячие точки. Интересно, что одна такая точка - остров Реюньон в Индийском океане, и Деканское излияние произошло именно тогда, когда, согласно расчетам, плывущая не север Индия оказалась точно на том месте, где сейчас находится этот остров.

Самым важным источником информации о строении Земли являются землетрясения, наиболее глубокие очаги которых располагаются на уровне порядка 700 км. Любое землетрясение вызывает сейсмические волны деформации, пронизывающие в различных направлениях земной шар. Очевидно, что, чем больше регистрируется землетрясений, тем точнее и полнее информация о недрах нашей планеты. Недостатка в количестве и регистрации землетрясений ученые не испытывают, но обработка этого колоссального объема информации (ежегодно происходит сотни тысяч землетрясений, которые регистрируют тысячи сейсмостанций - см. карту землетрясений online) стала возможной только в последнее время с помощью современных компьютеров. Это позволило создать послойные изображения внутренней структуры земных недр, реализовать новый метод исследования, сейсмотомографию.
На представленной визуализации показаны данные землетрясений на Земном шаре в период 2000-2015 гг магнитудой выше 4. Каждая светящаяся точка отображает землетрясение. Чем ярче точка, тем выше магнитуда землетрясения. Точки являются накопительными, т.е. области наиболее частых землетрясений ярче других.
С помощью сейсмотомографии ученые геофизики получили первые представления о конвективных течениях вещества в мантии Земли. В пределах верхней мантии подтвердились основные положения теории тектоники литосферных плит: действительно наблюдается погружение холодных и более плотных океанических пластин под более легкие континентальные и подъем нагретого вещества вдоль осей рифтовых океанических и континентальных зон. Однако обнаружились и неожиданности: разнонаправленное горизонтальное или близкое к нему движение вещества, а не только перемещение в вертикальной плоскости, как это предполагалось раньше. При этом нагретые потоки мантийного вещества под областями новейшего вулканизма или рифтовыми зонами срединно-океанических хребтов не поднимаются из глубины в виде прямых колонн, а имеют весьма причудливую форму, отклоняясь в стороны и обладая отростками, апофизами, шарообразными вздутиями.
Вместе с этим были обнаружены гигантские суперплюмы, Тихоокеанский (Гавайские острова и остров Пасхи) и Африканский (примерно под зоной сочленения Африканской, Сомалийской и Аравийской плит), которые объединяют известные "горячие точки", образуя так наз. "горячие поля", простирающиеся на многие тысячи километров. По данным сейсмотомографии здесь происходит подъем глубинного вещества до поверхности. Это позволило говорить о том, что конвективные явления имеют глубинную природу. При этом процессы, ассоциируемые с верхним слоем, хорошо вписываются в существующую теорию тектоники литосферных плит, а наличие двух суперплюмов говорит о двухячейстом характере конвекционных процессов.

Границы «горячих полей» примерно совпадают с контурами «низкоскоростных мантийных провинций (LLSVP - large low shear velocity provinces)», называемых также суперплюмами. В отличие от низкоскоростных провинций высокоскоростные ассоциированы с зонами субдукции, в пределах которых происходит опускание литосферных плит в мантию. Их связь с современными проявлениями вулканизма подтверждается локализацией на поверхности планеты всех известных на сегодня 49 горячих точек, а сами мантийные провинции определены методом сейсмотомографии. Источник - Глубинная геодинамика
Очень важной особенностью тектоники литосферных плит является её проверяемость независимыми методами. Ещё основатель этой теории Альфред Вегенер в порядке доказательства указал на многочисленные сходства в геологическом строении континентов, а также на общность ископаемой флоры и фауны в геологическом прошлом. Но 100 лет назад у него не было подходящих инструментов, чтобы удостоверится, что континенты действительно движутся. Современное оборудование позволяет выполнить необходимые расчеты с очень высокой точностью.

В соответствии с теоремой Эйлера движение литосферных плит по поверхности сферы можно представить как вращение вокруг оси, проходящей через центр сферы, т.е. вращение может быть описано тремя параметрами: координаты оси вращения (например, её широта и долгота) и угол поворота. В конце 80-х гг. был проведен эксперимент по проверке движения литосферных плит. Он был основан на измерении базовых линий (геодезических линий, проходящих через неподвижные точки, выбранные на разных континентах), по отношению к далеким квазарам, которые благодаря своему сверхмощному радиоизлучению и удаленности, называют также маяками Вселенной. На двух плитах выбирались точки, в которых, с использованием современных радиотелескопов, определялось расстояние до квазаров и угол их склонения, и, соответственно, рассчитывались расстояния между точками на двух плитах, т.е. определялась базовая линия. Через несколько лет измерения повторялись. Была получена очень хорошая сходимость результатов, рассчитанных по другим критериям. Полученные данные подтвердились и современными измерениями с помощью спутниковых навигационных систем GPS. Как говорит доктор геолого-минералогических наук, профессор Николай Короновский:
UPD
Не успел закончить, как в комментариях пришло замечательное дополнение от док. Александра Черницкого ( achernitsky
) про "наши палестины" - про Сиро-Африканский разлом и осколки литосферной плиты, на которой мы живем:
Как и полагается в еврейском государстве - здесь всё движется во все стороны. Это как раз тот случай, о котором я написал выше:
"Существует ещё один вид, при котором взаимодействуют несколько плит и их движение слишком сложно. Это процессы на многоплиточных границах. Как, например, между Африкой и Европой, где кроме двух основных плит имеется также множество мелких. Их взаимодействие пока мало изучено и прогнозирование их перемещений проблематично."
Не так давно, ученым стало известно о том, что Средиземное море умирает и судя по данным, которые удалось собрать за это время, есть повод полагать, что соседствующему Атлантическому океану придется пережить новые времена.
Для научного мира не секрет, что срок жизни океанов – несколько сотен миллионов лет, что по меркам нашей планеты не так уж много. Одни океаны появляются, а другие уходят навсегда. Процесс формирования связан с разрывом континентов, который рано или поздно происходит, а смерть океанов соответственно, начинается, когда континенты сталкивается и океаническая кора погружается в мантию Земли.
Однако, не смотря на эти знания, довольно неопределенным остается процесс формирования так называемых зон субдукции (именно этот процесс начинается сейчас в Атлантике). Сама зона субдукции – это линейно протяжённая зона, вдоль которой происходит погружение одних блоков земной коры под другие. Чаще всего в них океаническая кора пододвигается под островную дугу или активную континентальную окраину, и погружается в мантию.

Интересное открытие в этой сфере сделал Жуан Дуарте из Университета Монаш, который решил найти для наблюдения формирующуюся зону субдукции для дальнейшего исследования. Наблюдения привели его к абсолютно новому тектоническому примеру плит в южном районе Португалии. В течение восьми лет, исследователь и его команда проводили замеры и занимались картографированием геологической активности на берегах Португалии и обнаружили, что полученные сведения говорят о том, что в этом районе формируется зона субдукции.
Открытым и известным фактом было то, что юго-западный район Португалии был испещрен надвигами, которые, по мнению группы Дуарте соединены между собой трансформными разломами, а стало быть – это не отдельные участки пород, которые заходят под другие, а фактически целостная система разломов протяженностью в несколько сотен километров. Данный факт, считает Дуатре и является подтверждением их предположения о формировании здесь зоны субдукции.

Главным достижением исследования команды Жуана Дуатре является возможность судить о причинах формирования. Основная идея исследования ученого состоит в проведении параллели формирования зоны с зоной субдукции на западе Средиземного моря. Он считает, что трансформные разломы являются связующим звеном между этой новой зоной и Гибралтарской дугой, а стало быть, есть вариант, что сдвиг одной литосферной плиты под другую распространяется из умирающего Средиземного моря.
«Можете считать эти зоны субдукции пороками развития, - говорит г-н Дуарте. - Из этих областей разойдутся трещины, которые рано или поздно приведут к разлому литосферной плиты. Возможно, мы оказались свидетелями переломного момента в истории Атлантики». Уже сейчас Атлантический океан убывает в зонах Карибского бассейна и крайнего юга.
Однако далеко не все поддерживают ученого. Если с одной стороны, «теория инфекции» Дуатре объясняет причину формирования зон субдукций, то с другой – данных на нынешнем этапе слишком мало, и с уверенностью говорить о том, что открывается новая зона нельзя – полагает Жак Девершер из Брестского университета во Франции.
Так это или нет – в будущем покажут дальнейшие исследования, а пока что не будем спешить переводить Анлантический океан из списка молодых океанов в категорию старых и умирающих.