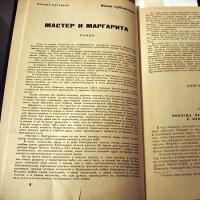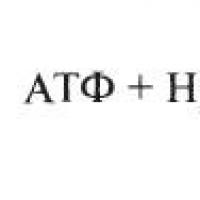Карл густав маннергейм биография. Литературно-исторические заметки юного техника. Николаевское кавалерийское училище
Густав Маннергейм происходил из старинного шведского рода. После победы над шведами один из его предков был руководителем делегации, принятой Александром I и способствовал успеху переговоров, закончившихся в результате утверждением конституции и автономного статуса Великого Княжества Финляндии. С тех пор все Маннергеймы стали отличаться чёткой прорусской ориентацией, благо Александр I неоднократно напоминал: «Финляндия - не губерния. Финляндия - это государство». Дед Маннергейма был Президентом верховного суда в Выборге и известным энтомологом, а отец - промышленником, ведущим крупные дела во всей России и большим знатоком литературы.
Родился в семье шведского аристократа, барона Карла Руберта Маннерхейма. Место рождения - имение Лоухисаари, недалеко от Турку, юго-запад Финляндии. Когда Карлу Густаву было 13 лет, отец разорился, и, бросив семью, уехал в Париж. В январе следующего года умерла его мать, графиня Хедвиг Шарлотта Хелена Маннерхейм. В 1882-1886 учился в Финляндском кадетском корпусе, но был исключен за хулиганское поведение и нарушения дисциплины. Окончив частный лицей в Хельсинки, сдал вступительные экзамены в Гельсингфорсский университет (1887). Это позволило ему поступить в Николаевское кавалерийское училище в Санкт-Петербурге, где он обучался в 1887-1889.
Русская армия
В русской армии служил в 1887-1917, начав с чина корнета и закончив генерал-лейтенантом.
1889-1890 - служил в 15-м драгунском Александрийском полку, в Калише (Польша).
Кавалергардский полк
1891 - в январе, 20 числа, поступает на службу в Кавалергардский полк, где поддерживается строгая дисциплина. Маннергейм живёт на жалованье, весьма скудное.
1892 - 2 мая женился на Анастасии Николаевне Араповой, дочери кавалергарда генерала Николая Арапова, с богатым приданым. Теперь Густав заводит породистых лошадей, которые начинают брать призы на скачках и смотрах, зачастую в качестве наездника выступает сам Маннергейм. Обычно первый приз составлял около 1000 рублей (при этом снять квартиру для семьи в престижном доме стоило 50-70 рублей в месяц).
Лучшие дня
1895 - 24 марта Густав знакомится с 40-летней графиней Елизаветой Шуваловой (Барятинской), с которой будет долго поддерживать романтическую связь. 1 июля поручику Маннергейму вручён первый в его жизни иностранный орден - Кавалерийский крест австрийского ордена Франца-Иосифа. 7 июля, в понедельник, родилась дочь Софья (умерла в 1963 году в Париже в жуткой нищете - денег не было даже на отдельный могильный крест).
1896 - 14 мая участвует в коронации Николая II в качестве младшего ассистента. После коронации Николай II объявил благодарность офицерам Кавалергардского полка, командир полка стал генералом свиты Его Императорского Величества. 16 мая в Кремлёвском дворце был дан приём для офицеров полка, где Маннергейм имел продолжительную беседу с императором. После этого у Маннергейма навсегда появился «его император».
Придворная конюшенная часть
1897 - 7 августа командир бригады Артур Гринвальд сообщил, что по просьбе императора скоро возглавит Придворную конюшенную часть и что хотел бы видеть Маннергейма в своих помощниках. 14 сентября Высочайшим указом Густав переведён в Придворную конюшенную часть с оставлением в списках Кавалергардского полка, с окладом в 300 рублей и двумя казёнными квартирами: в столице и в Царском Селе. По поручению Гринвальда штаб-офицер Маннергейм составляет справку о состоянии дел в Конюшенной части, по результатам которой генерал начал наводить порядок «в вверенной ему части». В конце ноября Маннергейм подбирает для Валентина Серова лошадей, с которых художник делает эскизы - царские лошади были лучшими в России.
1898 - с 27 марта по 10 апреля Маннергейм был членом судейской коллегии Михайловского манежа, после чего уехал в длительную командировку по конным заводам - комплектация конюшни лошадьми была его основной задачей. В начале июня Маннергейм знакомится с Брусиловым. В ноябре, в командировке в Берлине, во время осмотра лошадей трёхлетняя кобыла раздробила Густаву коленную чашечку (всего в жизни Маннергейма было 14 переломов различной степени тяжести). Оперировал профессор Эрнст Бергман (1836-1907), знаменитый хирург, во время Русско-турецкой войны 1877 года был хирургом консультантом в русской Дунайской армии.
1899 - в середине января Маннергейм наконец начал вставать с постели и передвигаться при помощи костылей. Кроме сильных болей в колене ему не давала покоя мысль, что он не сможет участвовать в юбилейных (100 лет) торжествах Кавалергардского полка, назначенных на 11 января. Впрочем, Густава не забыли. Он получил несколько телеграмм из Петербурга, в том числе от шефа полка - вдовствующей императрицы, поздравления от офицеров полка и Конюшенной части, от Кайзера Германии. 12 февраля поручик с супругой были приглашены на обед в императорский дворец на Оперной площади Берлина. Вильгельм II впечатления на Маннергейма не произвёл: «фельдфебель». Сказывалось воспитание Густава в высшем свете придворной аристократии.
22 июня Маннергейм отправился (вместе с графиней Шуваловой) долечивать колено на грязевой курорт Гапсаль (Хаапсалу), где в прекрасном расположении духа и застал его приказ о присвоении звания штабс-ротмистр.
12 августа штабс-ротмистр уже в столице при делах самого широкого спектра: от комплектации лошадьми Конюшенной части до продажи навоза для усадьбы фрейлины ЕИВ Васильчиковой.
1900 - в январе офицер много времени проводил на полигоне, где проводились испытания новых (бронированных) карет для царской фамилии. Кареты оказались слишком тяжелы, под весом брони ломались колёса. Центр тяжести оказался слишком высоко - даже от небольшого взрыва кареты переворачивались. Предложение Маннергейма поставить кареты на пневмошины не было использовано.
12 апреля Густав получает первый русский орден - Орден Святой Анны 3-й степени. Травма продолжает давать о себе знать, и 24 мая Маннергейм возглавляет (временно) канцелярию Конюшенной части, в которой трудились, по большей части, жёны офицеров той же Конюшенной части. Кавалергард правильно и чётко организовал работу канцелярии, что позже в своём приказе отметил Гринвальд и назначил его на должность заведующего упряжным отделением. Это отделение было ведущим в части и находилось на особом контроле у министра Двора графа Фредерикса. Здесь Густав также реорганизовал подразделение и навёл порядок, в том числе лично подковал лошадь, давая урок нерадивым кузнецам.
Весь год прошёл в семейных скандалах, так как Густав продолжал романы и с графиней Шуваловой, и с артисткой Верой Михайловной Шуваловой, супруга же устраивала жуткие сцены ревности. В результате это пагубно сказывалось на детях: дочь Анастасия ушла в монастырь в 22 года.
1901 - в начале февраля Маннергейм за рубежом. Конная выставка в Лондоне, оттуда на конные заводы братьев Оппенгеймер в Германии. По возвращении много работает, наводя порядок в пенсионной конюшне, в конском лазарете. Часто бывает на ипподроме, не забывая посещать и другие злачные места.
Летом чета Маннергеймов приобретает имение в Курляндии (купчую Анастасия оформила на себя), и в начале августа всей семьёй выезжают в Априккен. Там, разместившись в старинном доме (1765 года постройки), Густав развивает бурную деятельность. Но все его начинания идут прахом (рыбоводство, ферма), семья возвращается в столицу, и барон принимается «за старое». Супруга, поняв, что семейной идиллии больше не стоит ждать, записалась на курсы медицинских сестёр общины святого Георгия и в начале сентября баронесса Маннергейм в составе санитарного поезда уезжает на Дальний Восток (Хабаровск, Харбин, Цицикар) - в Китае шло известное «восстание боксёров».
В октябре Маннергейма избирают 80-м действительным членом общества Императорских рысистых бегов на Семёновском плацу и членом судейской комиссии.
1902 - баронесса возвращается в Петербург в феврале. Её впечатления о пережитом на Дальнем Востоке (она награждена медалью «За поход в Китай 1900 − 1901 гг.») производят сильнейшее впечатление на Маннергейма. На какой-то срок он становится «идеальным мужем».
В середине марта Маннергейм, который стал тяготиться своей «бумажной» работой в Конюшенной части, договаривается с Брусиловым о переходе в его офицерскую кавалерийскую школу. В мае, когда начался скаковой сезон, граф Муравьёв познакомил Густава с восходящей звездой балета Тамарой Карсавиной, с которой Маннергейм позже долго поддерживал дружеские связи. Очередной отпуск Маннергейм провёл отдельно от семьи, в Финляндии. 20 декабря ему было присвоено звание ротмистра.
1903 - жизнь империи потихоньку менялась, семейная тоже. Теперь супруги не разговаривали друг с другом, квартира на Конюшенной площади была разделена на две части. Впрочем, по утрам они вежливо здоровались. Баронесса продаёт имения, деньги переводит в парижские банки, прощается с ближним окружением (не ставя при этом мужа в известность), и, забрав дочерей и документы на Априккен, уезжает во Францию, на Лазурный берег. В апреле следующего года она поселяется в Париже.
Барон остаётся один на один с офицерским жалованьем и весьма большим количеством долгов (в том числе карточных). Старший брат Густава участвует в борьбе за изменение имперских законов в Финляндии, в связи с чем он высылается в Швецию. Весной подписан указ о прикомандировании Маннергейма в кавалерийскую школу Брусилова.
Офицерская кавалерийская школа
Ротмистр усиленно готовится к «парфорсной» охоте (изобретению Брусилова для «воспитания настоящих кавалеристов»). В начале августа в селении Поставы Виленской губернии Густав показывает прекрасные ездовые качества наравне с Брусиловым.
С сентября наступают служебные будни: каждый день в 8 утра офицер в офицерской кавалерийской школе на улице Шпалерной. Генерал Брусилов, зная, что Маннергейм является сторонником системы выездки лошадей Джеймса Филиса, назначил его помощником к знаменитому английскому наезднику.
1904 - 15 января Густав встречает Новый год в Зимнем дворце, на балу императора. Это был последний новогодний бал в истории Романовых. Уже 27 января Маннергейм присутствует на церемонии официального объявления Николаем II войны с Японией. Так как гвардейские части на фронт не отправлялись, Маннергейм продолжал служить в столице.
В конце февраля он сдаёт дела по упряжному отделению полковнику Каменеву. В апреле награждён двумя иностранными орденами, летом получает свой четвёртый иностранный орден - офицерский крест греческого ордена Спасителя. 31 августа приказом императора барон зачислен в штат офицерской кавалерийской школы с оставлением в списках Кавалергардского полка. 15 сентября, после детальной консультации с великим князем Николаем Николаевичем, генерал Брусилов назначает Маннергейма командиром учебного эскадрона и членом учебного комитета школы. В школе этот эскадрон был эталоном всего нового и лучшего в кавалерийской науке. Такое назначение не очень понравилось офицерам постоянного состава школы, меж собой они называли барона «гвардейским выскочкой». Впрочем, мастерство Маннергейма было на высоте и при умелой и тактичной помощи Брусилова Густав достаточно быстро смог начать «управлять процессами» в школе в нужном ему русле. Барон также был тепло принят в доме Брусиловых.
Что же касается личных дел, то они были в полном расстройстве. Куча долгов (и они росли), проблемы с женой (они не были официально разведены), плюс ко всему графиня Шувалова, муж которой к этому времени скоропостижно скончался, настаивала на «гражданском браке» с бароном. Впрочем, Густав ясно представлял все последствия подобного шага - столичный высший свет подобных поступков не прощал.
В сложившейся обстановке оставалось только одно - фронт. Шувалова, поняв это, бросает все дела (даже не выехав на Украину, где открывался памятник её мужу) и уезжает во Владивосток во главе походного лазарета. Брусилов пытался отговорить Густава, но, в конце концов, поняв тщетность своих усилий, согласился с Маннергеймом и обещал ходатайствовать о включении ротмистра в 52-й Нежинский полк.
Передав дела учебного эскадрона подполковнику Лишину, Маннергейм начал готовиться к отправке в Маньчжурию. Набралось огромное количество вещей, часть из которых надо было передать другим лицам по приезде на фронт. Чтобы покрыть огромные расходы, связанные с подготовкой, ротмистр получил большую ссуду в банке (под два страховых полиса). Выбрав трёх лошадей, Маннергейм отправил их отдельно в Харбин, хотя никто не мог сказать даже приблизительно, когда они туда прибудут.
Субботним вечером 9 октября 1904 года подполковник 52-го драгунского Нежинского полка барон Маннергейм курьерским поездом отправился в Маньчжурию, по пути сделав остановку в Москве и навестив родственников жены.
Русско-японская война 1904-1905 гг.
В пути Густав начал вести дневниковые записи.
24 октября поезд прибыл в Харбин, комендант станции сообщил ему, что лошади прибудут не ранее, чем через две недели. Густав дал во Владивосток, графине Шуваловой, телеграмму и отбыл туда сам. Вернувшись в Харбин 3 ноября, он отправляется в Мукден. 9 ноября, прибыв в Мукден, Маннергейм разыскивает своих лошадей и отбывает с ними к месту новой службы. Уже на месте барон узнаёт, что бригада в составе 51-го и 52-го драгунских полков не участвует в боевых действиях, так как командование боится ставить командиру бригады генералу Степанову самостоятельные задачи. Пришлось подполковнику сидеть в резерве. Этот период он отмечает в своём дневнике как крайне унылый и однообразный.
1905 - 8 января подписан приказ о назначении подполковника Маннергейма помощником командира полка по строевой части.
После падения Порт-Артура у Японии освободилась 3-я армия, в связи с чем главнокомандующий генерал Куропаткин А. Н., желая задержать прибытие этих сил японцев на главный театр военных действий, принял решение о кавалерийском рейде на Инкоу. Маннергейм писал: «В период с 25 декабря 1904 года по 8 января 1905 года я в качестве командира двух отдельных эскадронов принял участие в кавалерийской операции, которую проводил генерал Мищенко силами 77 эскадронов. Целью операции было прорваться на побережье, захватить японский порт Инкоу с кораблями и, взорвав мост, оборвать железнодорожную связь между Порт-Артуром и Мукденом…». Дивизион Маннергейма шёл в составе сводной драгунской дивизии под командованием генерал-майора А. В. Самсонова. Во время этого рейда Маннергейм на привале возле д. Такаукхень встретил сослуживца по Кавалерийской школе Семёна Будённого из 26-го Донского казачьего полка, также будущего маршала (Звание Маршала Финляндии года было присвоено Маннергейму 4 июня 1942). Сама же атака на Инкоу по множеству причин (от неправильной постановки цели до тактических просчётов типа неправильно выбранного времени атаки) привели к позорному поражению русской армии. Дивизион Маннергейма в атаке на Инкоу участия не принимал.
19 февраля, во время одной из стычек с отрядом кавалерии японцев, погиб ординарец Маннергейма граф Канкрин. Маннергейма из-под обстрела вынес его призовой жеребец Талисман, уже раненый и павший после этого.
23 февраля Маннергейм получил приказ начштаба генерал-лейтенанта Мартсона провести операцию в районе восточной Импени по спасению 3-й пехотной дивизии, попавшей в «мешок». Драгуны под прикрытием тумана зашли в тыл японцам и, проведя стремительную атаку, обратили их в бегство. За умелое руководство и личную храбрость барону было присвоено звание полковника, что, кроме прочего, означало и прибавку в 200 рублей к жалованью. По окончании операции дивизион Маннергейма был отведён на отдых (4 дня), после чего прибыл в расположение своего полка, на станцию Чантуфу.
Штаб 3-й Маньчжурской армии поручил барону провести глубокую разведку монгольской территории на предмет выявления там японских войск. Во избежание дипломатических скандалов с Монголией разведка проводится силами так называемой «местной милиции» в количестве трех сотен китайцев. «Мой отряд - просто хунхузы, то есть местные грабители с большой дороги… Эти бандиты … ничего, кроме русской магазинной винтовки и патронов, не знают… Мой отряд собран на скорую руку из отбросов. В нём нет ни порядка, ни единства… хотя их нельзя упрекнуть в недостаточной храбрости. Им удалось вырваться из окружения, куда нас загнала японская кавалерия… Штаб армии был очень удовлетворён нашей работой - удалось закартографировать около 400 вёрст и дать сведения о японских позициях на всей территории нашей деятельности» - писал Маннергейм. Это была его последняя операция в русско-японской войне. 5 сентября в Портсмуте С. Ю. Витте подписал мирный договор с Японией.
В ноябре полковник отбыл в Петербург. Приехав в столицу в конце декабря, узнал, что его должность, как штабная, исключена из штата 52-го драгунского Нежинского полка. Фронтовик, он теперь по-другому увидел «высшее общество столицы», которому, оказывается, не было дела до далёкой войны, до её жертв, да, и собственно говоря, до самого Густава тоже. Семейные дела как не были устроены до отъезда, так и сейчас выглядели полной катастрофой. Можно сказать, что всё это, вместе взятое, превратило придворного кавалергарда в жёсткого военного офицера.
1906 - в начале января полковник отбывает на родину, в двухмесячный отпуск для лечения ревматизма. Там он участвовал в сословном представительном собрании дворянской ветви Маннергеймов. Это было последнее такое собрание.
Последние годы
В 1945 году здоровье Маннергейма значительно ухудшается. 3 марта 1946 года он подаёт в отставку.
Теперь для прежнего президента стало возможным уделить надлежащее внимание здоровью. Руководствуясь советами врачей, Маннергейм путешествует по Южной Европе, подолгу живёт в Швейцарии, Италии, Франции. Находясь в Финляндии, он живёт в сельской местности, с 1948 начинает работать над мемуарами. В начале 1951 года двухтомник воспоминаний полностью закончен.
19 января 1951 года в связи с язвой желудка маршал был вынужден уже в который раз лечь на операцию. Операция прошла удачно, некоторое время Маннергейм чувствовал себя лучше. Но через несколько дней состояние его здоровья стремительно ухудшилось, 27 января 1951 года Карл Густав Маннергейм скончался.
Осенью 1918 на некоторое время было создано Королевство Финляндия. Финляндией управляли два регента и выборный монарх. 18 мая 1918 года парламент Финляндии дал своё согласие на назначение регентом спикера сената Пера Эвинда Свинхувуда. 12 декабря того же года парламент принял его отставку и утвердил новым регентом Карла Маннергейма. 9 октября 1918 года парламент избрал на трон Финляндии под именем Вяйнё I немецкого принца Фридриха Карла фон Гессена (Фредрик Каарле в финской транскрипции), который отрёкся от трона 14 декабря того же года, после поражения Германии в Первой мировой войне.
Люди, написавшие эту статью о человеке, виновном в гибели более 1 млн. жителей Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга), ставят своей целью заработать на любой дряни, лишь бы им выплатили оговоренный гонорар. Участие Г. Маннергейма в война Финляндии против СССР(приемника Российской империи)в 1939 г, уничтожение им российских (советских) граждан в Великую отечественную войну опущена в изложении полностью, измена очередному сюзерену - А. Шикльгруберу в 1944 - возведена в ранг достоинств.
Для наших отцов и дедов это был враг, воевавший против СССР. Для прадедов - опасный смутьян, возглавивший в Финляндии белое движение и изгнавший из страны большевиков. Для ещё более старшего поколения - военачальник, заслуживший высокие награды Российской империи. Для Севера Европы - символ национальной стойкости. Для самой Финляндии - регент, главнокомандующий, президент, борец за независимость.
Карл Густав Эмиль Маннергейм прожил долгую жизнь. Он родился 4 июня 1867 года, а скончался 27 января 1951 года. Из 83 прожитых им лет почти семьдесят был военным. Как пишет сам Маннергейм: «Мне исполнилось 15 лет, когда в 1882 году я поступил в кадетский корпус Финляндии. Я был первым из трёх поколений Маннергеймов, кто посвятил себя военной карьере».
Когда Финляндия была в опасности, Маннергейм истово вставал на её защиту. Когда опасность отдалялась, он уходил с высоких постов - всегда добровольно, либо же, как это произошло в конце жизни, по состоянию здоровья. Гордый был человек.
Маннергейм участвовал в крупнейших войнах первой половины века: в русско-японской и Первой мировой (естественно, на стороне России), в войне за независимость Финляндии 1918 г. (против красных), в советско-финляндской войне 1939-1940 гг. (против агрессии Советского Союза), во Второй мировой (на стороне Германии - против СССР).
Когда Маннергейм не воевал, он строил оборону страны. В 1931-1938 годах под его руководством была возведена знаменитая «Линия Маннергейма». Сам военачальник отзывается о ней весьма скромно: «...оборонительная линия, конечно, была, но её образовывали только редкие долговременные пулемётные гнёзда да два десятка выстроенных по моему предложению новых дотов, между которыми были проложены траншеи. Эту позицию народ и назвал „Линией Маннергейма“. Её прочность явилась результатом стойкости и мужества наших солдат, а никак не результатом крепости сооружений».
На самом деле, «Линия Маннергейма» была серьёзной фортификацией, предназначенной для обороны страны от нападения с юго-востока, но характеристика, данная ей Маннергеймом, очень показательна: как и положено настоящему полководцу, он гордится не техникой, а своими сынами - простыми солдатами.
Воспоминания Маннергейма - любопытный документ эпохи. Оценка и трактовка исторических фактов в них зачастую отличаются от общепризнанных, но следует признать, что автор - непосредственный участник событий - имел на это право. В его «Мемуарах» не следует искать красот литературного стиля: язык повествования сух и лаконичен, порой он напоминает военные сводки и, тем не менее, это - живая история, своего рода дневник солдата, который больше фиксирует события, чем окрашивает их. Вместе с тем в текстах приказов главнокомандующего, обращений к армии и народу, которых немало в книге, вдруг прорывается высокий пафос, и становится ясно, что эти строки писались глубоко чувствующим человеком, страдавшим за судьбу своей родины и гордившимся той ролью освободителя, которая выпала на его долю.
«Мемуары» маршала Маннергейма вышли в свет уже после его смерти, в 1952 году, были переведены на многие языки. Теперь эта книга становится достоянием российских читателей. Издательство пошло на значительные сокращения «Мемуаров» - в них очень много деталей и незначительных фактов, которые затруднили бы восприятие книги широкой читательской аудиторией. Однако сохранено главное - пристальное внимание автора к военной истории и политике, личное отношение к тем событиям, участником которых он был.
Первые десятилетия офицерской карьеры
Моя служба в царской армии России началась со случая, который оказал решающее влияние на мою жизнь. Я имею в виду отчисление из кадетского корпуса в Финляндии и поступление в Николаевское кавалерийское училище в Петербурге.
В скромных вооружённых силах, которые могло содержать Великое княжество Финляндское после присоединения к Российской империи, кадетский корпус в Хамина занимал особое место. Только в 1878 году был издан закон о всеобщей воинской обязанности, на основе которого, в дополнение к уже ранее существовавшему гвардейскому стрелковому батальону, в 1881 году были созданы ещё восемь стрелковых батальонов и позднее - драгунский полк. На своей родине эти соединения были очень популярны, а в империи финские стрелки многие годы пользовались прекрасной репутацией. Офицеров для этих соединений готовили в авторитетном учебном заведении, которое было основано ещё при шведах, а с 1821 года носило название кадетского корпуса Финляндии. Многие воспитанники корпуса снискали глубокое уважение за служение своей родине. Некоторые после сдачи выпускных экзаменов переходили на гражданскую службу, но основная часть продолжала обучение на трёхлетних специальных курсах для того, чтобы продолжить военную службу в Финляндии или, если они этого хотели, в царской армии, в которой многие бывшие кадеты проявили себя с самой хорошей стороны.
Мне исполнилось 15 лет, когда в 1882 году я поступил в кадетский корпус Финляндии. Я был первым из трёх поколений Маннергеймов, кто посвятил себя военной карьере. Однако в восемнадцатом веке почти все мужчины моего рода выбирали эту карьеру.
Для кадетского корпуса были характерны усердный труд и железная дисциплина. Малейшие отклонения от правил пресекались драконовскими мерами, в первую очередь лишением кадетов свободы. Дисциплина в младших классах зависела также от товарищеского суда, который был создан из учащихся двух старших классов с правом вынесения наказаний. У каждого младшего кадета был также и так называемый опекун, обязанный следить за его учёбой и поведением. Но атмосфера в корпусе была превосходная, а товарищеские отношения, возникшие в ней, оставались крепкими при любых превратностях судьбы.
Специфичность и особое положение вооружённых сил Финляндии, в том числе и кадетского корпуса, оказывали бесспорное влияние на обучение. Преподавательский состав менялся очень редко, и многие наставники отличались оригинальностью. Руководителем корпуса долгие годы был генерал Неовиус, происходивший из очень одарённой семьи, - хороший воспитатель и администратор, отличавшийся, правда, по временам весьма воинственным темпераментом. В сословном представительстве города Хамина он выражал интересы буржуазии, и кадеты прозвали его «буржуйским генералом».
Когда в 1885 году на смену генералу Неовиусу пришёл генерал Карл Энкелль, крутой и строгий солдат, выслужившийся в штабе генерала Скобелева на турецкой войне, в корпусе повеяли ветры перемен. Кадетам пришлось познакомиться с новыми манерами обучения. В результате я в течение двух месяцев не мог сделать и шага за пределы корпуса - причиной тому были небольшие прегрешения и нарушения распорядка, которые, по мнению современных педагогов, можно считать просто пустяками. Этот арест был для меня нетерпимым, и в один из пасхальных вечеров 1886 года я решил пренебречь запретом. Соорудив из своей военной формы очень правдоподобную, на мой взгляд, куклу, я уложил её на койку и отправился в самоволку. Ночевать я пошёл к одному писарю, жившему неподалёку, - его лысина, густая борода и могучий, как из преисподней, бас до сих пор хранятся в моей памяти. Ранним утром следующего дня я спал у него дома на широкой постели, рядом, на ночном столике, стоял стакан молока, и тут корпусной фельдфебель разбудил меня, чтобы отвести обратно в казарму. Кукла на моей постели была обнаружена, и это вызвало большой шум.
The Finnish Museum of Photography / Eric Sundström/ Regent of Finland C. G. E. Mannerheim, 1919, Helsinki.
Густав Маннергейм был генералом российской императорской армии, путешественником-исследователем, а затем, в период независимости, главнокомандующим во время трех войн и дважды - главой государства.
Наряду с Сибелиусом, он еще при жизни стал самым известным финном как у себя на родине, так и за границей.
Уже в начале своей карьеры он стал предметом отчасти мифологизированного восхищения и уважения, что воплотилось в названиях улиц, памятниках и в пользующемся популярностью доме-музее. Восхищение и уважение претерпевали изменения с течением времени.
Победившая сторона поначалу относилась к главнокомандующему в войне 1918 г. с восхищением, настолько легендарной была эта фигура. Проигравшая сторона испытывала ненависть.
В период между 1939 и 1944 гг. неприятель пытался вновь подогреть эти уже поутихшие отрицательные настроения, добившись, правда, скорее обратного результата.
В 1970-е гг., в период активизации левых сил, вновь звучала критика в адрес Маннергейма. Восхищение, соответственно, наиболее подчеркивалось в связи со смертью и похоронами маршала Финляндии, в связи с сооружением конного памятника в конце 1950-х гг., а также в 1980-е и 1990-е гг.
Личность Маннергейма стала предметом активного научного изучения начиная с 1950-х гг.

Густав Маннергейм родился 4 июня 1867 г. в замке Лоухисаари в местечке Аскайнен к северу от Турку. Он был третьим ребенком и унаследовал титул барона. Род был графским, и графский титул переходил к старшему сыну. Его отец граф Карл Роберт Маннергейм, так же как и близкие родственники его матери Хедвиг Шарлотты Хелены (Хелене) фон Юлин, были промышленниками и предпринимателями, а его дед, президент надворного суда граф Карл Густав Маннергейм, и прадед, сенатор граф Карл Эрик Маннергейм, были высокопоставленными чиновниками.
Среди близких родственников примерами для подражания могли служить адмирал Иоганн Эберхард фон Шанц, сделавший блестящую карьеру на Дальнем Востоке и в Санкт-Петербурге, путешественник-исследователь, профессор барон Адольф Эрик Норденшёлд, достигший всемирной известности и переехавший в Швецию, равно как и кузины деда сестры Шернваль (среди них была и ), снискавшие успех в высшем свете Санкт-Петербурга.
Начальный этап военной карьеры Маннергейма в Петербурге основывался как на родственных связях и рекомендациях по отцовской линии, так и на финансовой помощи родственников со стороны матери.
Банкротство отца, его похожий на бегство отъезд из Финляндии, распад семьи и ранняя смерть матери наложили печать на детство Густава Маннергейма и повлияли на его отправку в пятнадцатилетнем возрасте в 1882 г. в Финляндский Кадетский корпус в Хамина (Фридрихсгам). Типичная ранее для дворянства военная карьера теперь все чаще служила иным жизненным целям, примером чему был отец Маннергейма.
Быстро ухудшавшееся экономическое положение семьи и честолюбивый и упорный характер Густава как нельзя подходили для военной карьеры, Маннергейм, однако, был отчислен из Кадетской школы за нарушение дисциплины в 1886 г.

Он поступил в частную гимназию Бёка в Хельсинки и сдал экзамен на аттестат зрелости в 1887 г. Сразу же после этого он отправился в Петербург, где в сентябре 1887 г. смог поступить в Николаевское кавалерийское училище. В этом взыскательном военном заведении он успешно учился и был произведен в корнеты в 1889 г.
Целью Маннергейма было попасть в одно из элитных подразделений императорской гвардии, но его поначалу откомандировали в провинциальный гарнизон в Польшу. Оттуда год спустя он попал в кавалерийский полк гвардии Ее Императорского Величества, входивший в состав лейб-гвардии Его Императорского Величества, воспользовавшись рекомендациями придворных дам, родственниц императрицы и при финансовой поддержке своего дяди.
Маннергейм был произведен в гвардии лейтенанты в 1893 г.,в гвардии младшие ротмистры - в 1899 г., в гвардии ротмистры - в 1902 г. Маннергейм сохранял преданность императрице (с 1894 г. вдовствующей императрице) Марии Федоровне, которая считалась командиром этого полка, наносил ей визиты вежливости в Дании в 1920-е гг. и держал ее фотографию на столе в своем салоне в Хельсинки рядом с фотографией Николая II.
Благодаря своей изящной наружности и хорошим манерам Маннергейм на коронации императора Николая II и императрицы Александры в Москве в 1896 г. выполнял видную роль.
В 1892 г. он вступил в брак с богатой генеральской дочкой Анастасией Араповой. Брак, устроенный родственниками, избавил Маннергейма от финансовых трудностей, прежде омрачавших его жизнь. Служба в гвардейском полку предполагала такие расходы на светскую жизнь, на которые офицерского жалования никак не хватало. С точки зрения Анастасии Араповой, пользующийся успехом в свете блистательный Маннергейм был удачным выбором.
Супруги, у которых родились две дочери, София и Анастасия, в Петербурге, по всей видимости, говорили дома на французском языке; русский и немецкий использовались в имениях в Подмосковье и в Курляндии. Однако в отношениях наступил кризис, и супруги разошлись, фактически в 1903 г., а официально несколько позже. Тем не менее, они восстановили свои отношения в 1930-е гг. В 1937 г. в Хельсинки Маннергейм участвовал в отпевании своей бывшей жены по православному обряду.
По всей видимости, на представления Маннергейма о браке повлиял образ независимой и предприимчивой финской женщины и, прежде всего, пример очень близкой к нему старшей сестры Софии. Анастасия Маннергейм, в свою очередь, представляла собой тип женщины, воспитанной во всех отношениях для светской жизни высшего общества. В то же время, для нее была свойственна религиозная жертвенность, проявившаяся, когда она в 1901 г. отправилась с гуманитарной миссией Красного Креста на Дальний Восток. Позднее баронесса Маннергейм с дочерьми переехала во Францию.
Маннергейм возобновил отношения с дочерьми, когда после Первой мировой войны переехал в Финляндию. София время от времени бывала в Финляндии и немного выучила шведский язык. Во время пребывания Маннергейма на посту регента в 1919 г. она выполняла представительские функции хозяйки, а на церемонии промоции на философском факультете ей отводилась почетная церемониальная роль.
Маннергейм не попал в Академию Генерального штаба, очевидно, главным образом из-за недостаточного знания русского языка. Вместо этого он стал специалистом по лошадям, как занимаясь закупками племенных и рабочих лошадей для армии, так и пытаясь самостоятельно содержать конезавод в своем поместье, отчасти следуя примеру своего брата Юхана Маннергейма, переехавшего в Швецию.
С 1903 г. он командовал образцовым эскадроном и руководил обучением верховой езде в гвардейских кавалерийских полках, а также достиг известности в состязаниях по верховой езде. Маннергейм, тем не менее, искал пути дальнейшего продвижения по службе.
Когда в феврале 1904 г. началась война с Японией, он записался добровольцем на фронт, и был направлен в звании подполковника в 52-ой Нежинский гусарский полк, находившийся на маньчжурском фронте.
В это же время его старший брат, директор банка граф Карл Маннергейм, был выслан в Швецию как один из руководителей антиправительственной политической оппозиции, а те круги, к которым он принадлежал, искали контактов с Японией в целях разжигания восстания в Финляндии.
Некоторые другие родственники также перехали в Швецию, и в их переписке можно найти аргументы обеих сторон. Маннергейм подчеркивал значимость участия в войне для своей карьеры. Этим он мог компенсировать неудачу с поступлением в Академию Генерального штаба и попутно облегчить психологические и социальные проблемы, связанные с разводом.
На фронте Маннергейм действовал инициативно и стремился отличиться, но при этом ему пришлось столкнуться с неумелым ведением войны и раздорами в среде высшего командования. Руководство ценило его, и хотя ему не удалось получить самой желанной награды, Георгиевский крест, он был произведен в полковники за проявленное мужество в битве под Мукденом. Приказ датировался днем битвы.
Уже тогда Маннергейм планировал организовать длительную разведывательную экспедицию в малоизвестные районы Азии. Примером ему служили Норденшёльд, шведские и русские исследователи-путешественники (Свен Хедин, Николай Пржевальский), а также некоторые другие офицеры.
В то же время он считал, что удачная экспедиция позволит ему отличиться, в чем он нуждался для продвижения в карьере. Очевидно, его целью, было командование гвардейским полком.
После возращения с русско-японской войны Маннергейм в 1905–1906 гг. какое-то время провел в Финляндии и в Швеции. Как представитель баронской ветви своего рода, он впервые участвовал в сословном сейме, последнем в истории Финляндии.
На сейме Маннергейм не принимал участия в публичных политических дискуссиях, но он завязал личные связи и стал известен как человек, о котором, в случае возможного изменения политической ситуации, можно было бы, согласно прежней традиции, думать как о кандидатуре в сенаторы или даже министры статс-секретари.
Тщательно готовясь к экспедиции в Азию, в которую он уже был назначен, Маннергейм одновременно установил отношения с научными и фенноманскими кругами. Возможно, начальник генерального штаба генерал Палицын и его реформаторское окружение хотели специально держать Маннергейма подальше от политически неспокойного мира, чтобы сохранить его для будущих поручений как человека неангажированного.
Однако во время азиатской экспедиции Маннергейма Палицын вынужден был уйти в отставку. Впрочем, позднее все же заговорили об идее назначения Маннергейма помощником министра статс-секретаря или министром статс-секретарем, но политическая обстановка не позволила принять такое решение, при котором бы кандидатура министра статс-секретаря устраивала бы и императора и финскую элиту.
Маннергейм начал свою длительную экспедицию из Кашгара (Туркменистан) в октябре 1906 г., его целью был Пекин. В сопровождении лишь нескольких человек он проехал верхом территорию, почти полностью принадлежащую Китаю.
Его задачей было исследование этих по большей части незаселенных горных и пустынных районов, представлявших интерес для России, Китая и Великобритании. Научные цели экспедиции были связаны с военными - получить как можно более полное описание территории.
Маннергейм продемонстрировал известный научный талант и амбиции, исследуя обычаи, языки и этнические черты встречавшихся ему племен, археологию, собирая коллекцию предметов и делая фотографии.
Коллекция поступила в Хельсинки в Финно-угорское общество, которое позже выпустило подробный путевой дневник Маннергейма и помогло ему в написании путевого очерка, предназначенного для широкой публики. Фотоматериалы были опубликованы в 1990-е гг., тогда же коллекции были представлены в новом Этнографическом музее Хельсинки.
Маннергейм вернулся в Петербург в сентябре 1908 г. Император с интересом выслушал его доклад о поездке.
Теперь Маннергейм заслужил полк, однако, решение вопроса затянулось до января 1909 г., когда он, наконец, получил желанную должность командира гвардейского полка, правда, сначала в провинциальном Новоминском гарнизоне в Польше. Гвардейские части обычно расквартировывались в Петербурге, но несколько было и в Польше, а одна базировалась в Хельсинки вплоть до 1905 г.
Польский фронт был жизненно важным в подготовке к возможной войне с Германией и Австро-Венгрией. Маннергейм зарекомендовал себя как успешный командир-наставник как в Новоминском, так и в Варшаве, куда он был переведен в 1911 г. командиром гвардейского уланского полка Его Императорского Величества.
В 1911 г. он был произведен в генерал-майоры, а в 1912 г. вошел в свиту Его Императорского Величества, что соответствовало званию генерал-лейтенанта. С ликвидацией свиты в 1917 г. он был произведен в генерал-лейтенанты.
В Варшаве Маннергейм провел один из самых счастливых этапов своей жизни: он добился успеха в карьере, воспринимал свою работу как важную и приятную, завязывал близкие и плодотворные отношения с высшими кругами польской аристократии и имел возможность поддерживать связь со своими братьями и сестрами в Финляндии и Швеции.
Он сильно привязался к княгине Марии Любомирской. Большинство адресованных ей писем Маннергейма сохранились и были опубликованы. Они дают будущим поколениям возможность узнать Маннергейма как утонченного, отзывчивого и чувственного человека. Письма госпоже Любомирской в основном были отправлены с фронта начавшейся августе 1914 г. мировой войны.
Всю войну Маннергейм был в действующей армии, в основном на фронтах против Австро-Венгрии и в Румынии. Ему пришлось провести эти годы в физически и психологически тяжелых условиях и довелось испытать как успехи, так и неудачи. После первых неудач России удалось сохранить свои позиции, и война затянулась.
18 декабря 1914 г. за проявленную доблесть он был награжден давно желанным Георгиевским крестом. Февральская революция 1917 г. незамедлительно сказалась на положении в армии и ходе войны. Маннергейм не пользовался расположением у нового правительства и в сентябре был освобожден от своих обязанностей.

Он находился в резерве и пытался восстановить здоровье в Одессе. После того, как обстановка в России становилась все более запутанной, и после того, как потерпела неудачу масштабная наступательная операция Корнилова (т.н. Корниловский мятеж), Маннергейм стал задумываться о выходе в отставку и возвращении в Финляндию.
Но и в Финляндии осенью 1917 г. ситуация становилась все более хаотичной, нарастала угроза гражданской войны, когда с крахом государственной машины стала создаваться как красная, так и белая гвардия. В январе 1918 г. буржуазный сенат под председательством П.Э. Свинхувуда и его военные специалисты остановились на кандидатуре Маннергейма на должность командующего проправительственных отрядов гражданской гвардии (шюцкор).
Маннергейма посчитали наиболее подходящим из генералов, финнов по происхождению, служивших или служащих в российской армии. Без сомнения, эта оценка основывалась на его происхождении и социальных контактах, а также на политических связях, в том числе и с родственниками, находившимися в оппозиции.
На выбор не повлияли антигерманские и антантофильские убеждения Маннергейма, что в дальнейшем привело к конфликту, так как Свинхувуд и в целом руководящие буржуазные круги Финляндии еще ранее осенью сделали ставку на Германию в расчете на военную поддержку отделения Финляндии от России.
Маннергейм был формально назначен на пост главнокомандующего 16 января 1918 г. и отправился в Сейняйоки, где и развернул свой штаб в районе, являвшемся оплотом белых и выгодно отличавшемся близостью основных транспортных магистралей.
Сенат, правительство Финляндии, располагался в Вааса. Он сформировал штаб из финнов, служивших в российской армии, и укрепил его значительным количеством шведских добровольцев-офицеров, которые играли важную военную и политическую роль.
Маннергейм не хотел, чтобы в штабе были немцы, да и Германия до заключения Брест-Литовского мира 3 марта 1918 г. не была готова послать в Финляндию своих солдат. Когда позже Германия решила принять участие в разрешении ситуации в Финляндии и направить для этого Балтийскую дивизию под командованием генерала графа Рюдигера фон дер Гольца, Маннергейм вынужден был по политическим причинам изменить свою стратегию.
Война началась в Похьянмаа как «освободительная война» с разоружения нескольких русских гарнизонов. Это имело существенное значение как с точки зрения приобретения оружия и формирования северного плацдарма, так и с точки зрения легитимации войны в целом. Целью Маннергейма теперь было формирование войск (была введена воинская обязанность) и их подготовка, а также получение из Швеции и других мест оружие. С приближением германской интервенции он решил ускорить захват Тампере, опорного пункта красных, что и удалось сделать после ожесточенных боев и больших потерь с обеих сторон.
Одновременно белая армия продвигалась в Саво и южном направлении, и ставка была перенесена в Миккели. Маннергейм, без сомнения, все это время исходил из возможности того, что русские белые с помощью западных стран Антанты рано или поздно попытаются свергнуть большевистское правительство, и что Финляндия будет участвовать в этой операции.
Чтобы подчеркнуть финский («не-германский») характер освободительной войны, 16 мая 1918 г. в Хельсинки Маннергейм устроил грандиозный парад победы своей «крестьянской армии».
Фон дер Гольц со своими войсками месяцем раньше разгромил красное правительство и его военные силы в Хельсинки, и в городе были сильны прогерманские настроения. Теперь Маннергейм встал в оппозицию по отношению к прогерманской военно-политической ориентации Сената, который, во имя обеспечения безопасности от России и от своих собственных красных, полностью помещал Финляндию в сферу влияния Германии.
Когда Сенат не согласился с требованиями Маннергейма, 1 июня 1918 г. он покинул страну, убежденный в том, что в любом случае Антанта победит. Таким образом, Маннергейма не было в стране на заключительном, судьбоносном этапе освободительной войны, отмеченном массовой смертностью от болезней и голода в огромных концентрационных лагерях и длительными судебными процессами.
Он еще во время войны пытался остановить «белый террор» и возражал против массовых арестов красных, а также против практики индивидуальных судебных процессов по обвинению в измене родине.
Осенью 1918 г. Маннергейм вел переговоры в Лондоне и Париже, и когда в Финляндии после поражения кайзеровской Германии предстояло изменить форму правления, в соответствии с формами правления 1772 и 1789 гг. Маннергейм был приглашен на пост регента с полномочиями временного осуществления высшей государственной власти вплоть до окончательного разрешения вопроса о форме правления, ставшего злободневным уже в 1917 г.
Чтобы укрепить позиции Маннергейма и его ориентацию на Антанту, заинтересованные державы направили в Финляндию большие партии продовольствия, которые спасли страну от голода.
Весной 1919 г. ему удалось добиться признания независимости Финляндии Великобританией и Соединенными Штатами, а также возобновления признания со стороны Франции, которая ранее дала согласие на признание, но затем отозвала его.
Маннергейм использовал эти признания и свои официальные визиты в Стокгольм и Копенгаген, а также другие символически важные акты для существенного укрепления нового суверенного статуса Финляндии, пытаясь закрепить ее ориентацию на страны-победители Францию и Англию, а также на Швецию.
Вопрос о будущем России, однако, оставался открытым. Маннергейм надеялся, что власть коммунистов там, как и в Финляндии и в Венгрии, может быть свергнута. Самым большим вопросом в период регентства Маннергейма было отношение к попытке белых русских войск захватить Петроград, что, вероятно, привело бы к свержению большевистского правительства.
Маннергейм полагал, что Финляндия должна была участвовать в операции, но переговоры с русскими белыми оказались непростыми. Русские белые не могли принимать решения, являвшиеся прерогативой национального собрания, как и не могли гарантировать суверенитет Финляндии.
Финляндия же, склонившись на сторону Германии, разгромив красных, выступавших за более прочные связи с Россией, и упрочив затем суверенитет с помощью западных государств, уже весьма определенно противопоставила себя России, вне зависимости от того, какой она может стать на предполагаемом национальном собрании.
Так как пограничные стычки на Карельском перешейке продол- жались, особенности в июне 1919 г., активисты пытались склонить Маннергейма воспользоваться своей монархической властью и начать наступление. Но Маннергейм отказался от этих предложений, потому что не находил в Финляндии достаточной политической поддержки этой идеи.

17 июля 1919 г. он утвердил новую форму правления, выработанную в результате компромиссного решения в парламенте в июне. Маннергейм лично не вмешивался в дискуссию по форме правления, но в произнесенной им еще 16 мая 1918 г. речи, по причинам внутренне- и внешнеполитического характера, он выступил за сильную правительственную власть, и можно было небезосновательно предположить, что он не утвердит чисто парламентарную форму правления.
Поскольку идея монархической формы правления, предложенная осенью, была тесно связана с потерпевшей поражение Германией, и поскольку выбором короля нельзя было заручиться поддержкой какой-либо великой державы в качестве гаранта безопасности Финляндии, единственным вариантом оставался компромисс между монархической и парламентской формами правления - президентская республика, которую иногда определяли как «выборную монархию».
Такая форма правления закрепляла за президентом настолько широкие властные полномочия по изданию указов и некоторые другие права, что они полностью на практике никогда не применялись.
Форма правления 1919 г. появилась в период гражданской войны в России и состояния войны между Финляндией и Россией, и она проявила свою действенность, особенно в трудные с точки зрения внешней политики времена.
О периоде пребывания Маннергейма на посту регента, помимо конституции и признания независимости зарубежными государствами, напоминает учрежденный им орден Белой Розы Финляндии, вручаемый за военные и гражданские заслуги; за год до этого он как главнокомандующий учредил орден Креста Свободы, который был возрожден в качестве награды за боевые заслуги в 1939 г.
Знаки отличия этих рыцарских орденов были выполнены известным художником
Галлен-Каллела, который был немного старше Маннергейма, в 1919 г. был одним из его адъютантов, позднее в том же году он получил титул почетного профессора. Им были разработаны и другие государственные символы Финляндии, но большая их часть была отвергнута после отставки Маннергейма.

Выборы президента республики в соответствии с новой конституцией прошли 25 июля 1919 г., но не выборщиками, а, в виде исключения, парламентом. Маннергейм получил 50 голосов депутатов от консервативной Национальной коалиционной и Шведской народной партий, однако победа досталась Каарло Юхо Стольбергу, председателю Высшего административного суда, набравшему 143 голосов, кандидатуру которого поддерживали Аграрный союз, Прогрессивная партия и социал-демократы.
Между Маннергеймом и Стольбергом не установились доверительные отношения, и планы о назначении Маннергейма главнокомандующим армией, или же главнокомандующим отрядами шюцкора с очень самостоятельными полномочиями, не осуществились.

После этого Маннергейм ушел в личную жизнь, и для него был собран довольно большой фонд («гражданский подарок»), на средства которого он мог существовать. Он арендовал в парке Кайвопуйсто виллу, принадлежавшую семье Фацер, и реконструировал ее так, чтобы она отвечала потребностям, человека, ведущего будничную, скромную солдатскую жизнь, но, с другой стороны, соответствовала бы статусу бессемейного аристократа, бывшего главы государства.
В 1920-е гг. он посвятил много времени финскому Красному Кресту и созданному в 1920 г. Союзу защиты детей Генерала Маннергейма. В рамках последнего он боролся за единение нации и за сглаживание противоречий, порожденных гражданской войной. В этом ему помогала его сестра, а позднее известный педиатр, заслуженный врач Арво Юльппё, а также многие другие люди.
Маннергейм также ездил за границу на охоту и в санатории и поддерживал связи с политическими и дипломатическими кругами. Очевидно, в какой-то степени он скучал по активной жизни, не будучи вполне удовлетворенным одной лишь гуманитарной работой, незначительным участием в бизнесе (председательство в правлении банка Лииттопанкки, летнего кафе рядом с его виллой в Ханко), чтения, посещения концертов и светской жизни.

Начавшийся в 1929 г. экономический и политический кризис вновь актуализировал статус Маннергейма, и некоторые праворадикальные группировки желали, чтобы Маннергейм стал военным диктатором. Он, однако, с настороженностью относился к Лапуаскому движению и к различным группам его сторонников и не давал никаких обязательств; он внимательно следил за обстановкой, подготавливаясь, вероятно, к возможности захвата власти лапуасцами.
В марте 1931 г. ставший в это неспокойное время президентом Пер Эвинд Свинхувуд вскоре после своего избрания назначил Маннергейма председателем Совета обороны и главнокомандующим на случай войны, тем самым формально вновь интегрировав его в государственную систему.
В 1933 г. Маннергейм получил звание маршала. Изменения в мире начиная с 1933 г. сместили акценты в оборонной политике Финляндии. Сохранявшийся до этого энтузиазм в отношении Восточной Карелией и Ингерманландии, равно как и идеология Великой Финляндии ослабевали по мере того, как Германия и Советский Союз быстро набирали силу.
Одновременно с этим ослабевало относительное значение Лиги наций, считавшейся важным гарантом для Финляндии и других маленьких государств. Маннергейм участвовал в признании «скандинавской ориентации», политики, официально признанной в 1935 г., которая, однако, не давала Финляндии гарантий безопасности.
Скандинавская ориентация, однако, имела большое политическое и психологическое значение, и когда в 1939 г. между Финляндией и СССР разразилась война, это привело к добровольческому движению и масштабной гуманитарной и военной помощи из Швеции, а также вызывало симпатию в отношении Финляндии в западных странах.
В 1933–1939 гг. Маннергейм, помимо Швеции, активно развивал отношения с Великобританией. Он представлял Финляндию на похоронах короля Георга V и имел контакты с Королевскими воздушными силами и авиационной промышленностью Великобритании.
Отношения с Германией он поддерживал во время поездок на охоту с маршалом Германом Герингом. Однако во время своего семидесятилетия в 1937 г., а также во время празднования двадцатилетия гражданской войны в 1938 г. - обе эти даты превратились в общенациональные события - он подчеркивал значимость национального единения и более тесных связей с социал-демократами, впервые вошедшими в правительство в коалиции с Аграрным союзом, нежели связей с Германией.
Несмотря на постоянный нажим со стороны Маннергейма, основные части армии к осени 1939 г. все еще были плохо оснащены. Во время финско-советских переговоров по вопросу о границе и безопасности Маннергейм полагал, что у Финляндии не было возможностей придерживаться такого жесткого курса, который проводило правительство, и рекомендовал согласиться на территориальные уступки и обмен территориями, несколько раз угрожая уйти в отставку.
Когда переговоры потерпели неудачу и 30 ноября 1939 г. началась война, Маннергейм принял на себя обязанности главнокомандующего и вновь создал ставку в Миккели. Он оставался главнокомандующим до 31 декабря 1944 г. и все это время по большей части находился в Миккели. Несмотря на свой возраст и проблемы со здоровьем, он непрерывно работал всю войну, если не считать пару коротких отпусков, тем самым подавая ставке, всей армии и народу пример самоотдачи в критической ситуации.
Во время Зимней войны, последовавший за ней период, получивший название «перемирия», а также во время «Войны-продол- жения», начавшейся 25 июня 1941 г., Маннергейм входил в группу, состоявшую из 4–5 человек, фактически осуществлявшую руководство страной.
Помимо Маннергейма в этот круг входили ставший в 1940 г. президентом Ристо Рюти, премьер-министры Й.В. Рангель и Эдвин Линкомиес, министры иностранных дел Вяйнё Таннер, Рольф Виттинг и К.Х.В. Рамсай, а также генерал-лейтенант Рудольф Вальден, все время занимавший пост министра обороны.
Таким образом, уже в 1939–1940 гг. Маннергейм существенно повлиял на ход Зимней войны и попытки заключения мира. Он подчеркивал, что армия, несмотря на героизм, проявленный в обороне, была слабой и находилась на пределе своих возможностей, и что поэтому нужно было принять тяжелые условия мира, что и было сделано.
После Зимней войны Финляндия испытала на себе постоянное давление со стороны Советского Союза, что было связано с обстановкой в мире в целом. Единственным противовесом этому давлению могла быть Германия, но и она находилась в союзе с СССР. Однако с сентября 1940 г. Германия начинает брать Финляндию под свою опеку в ее отношениях с СССР, и с начала 1941 г. военные контакты между ставками постепенно становятся более тесными. До самого последнего момента было неясно, начнет ли Германия (и когда) войну против Советского Союза.
В этот период Финляндия, однако, смогла значительно улучшить уровень оснащенности своей армии. Вступление Финляндии летом 1941 г. в войну вызвало большой исследовательский интерес сразу после войны и в более поздние периоды; были предприняты попытки выяснить, когда Финляндия «окончательно» присоединилась к военным приготовлениям Германии против Советского Союза, и кто в Финляндии руководил этими приготовлениями или же знал о них.
Военное руководство маршала Маннергейма во время войны 1941- 1944 гг. имело важное психологическое значение: своим авторитетом он держал в подчинении генералов в ставке и фронтовых командиров, а также членов правительства и сдерживал внутренние конфликты и соперничество, обычные для затягивающейся войны.
Политическое значение его авторитета проявилось и в отношениях с Германией: Маннергейм, из всего руководства Финляндии, наиболее отчетливо требовал - и мог требовать - формального и реального соблюдения политической и военной независимости Финляндии.

Интересным примером этому стал 75-летний юбилей Маннергейма 4 июня 1942 г., когда Адольф Гитлер, фюрер Германии, лично прибыл поздравить только что произведенного в маршалы Финляндии Маннергейма. Поведение Маннергейма в этой ситуации считают образцовым сочетанием подчеркнутой вежливости и твердости в сохранении собственного авторитета.
Это позволило отвергнуть притязания Германии на диктат в отношении Финляндии, или требование заключения формального союзного договора, тем самым становилось возможным выйти из положения с помощью данных президентом Рюти летом 1944 г. гарантий, которое оставались в силе лишь несколько недель.

Психологическая, объединяющая нацию роль Маннергейма подчеркивалась во время войны разными способами: например, в виде почтовых марок, а также тем, что ко дню его рождения почти во всех городах Финляндии появились улицы, носящие его имя. Орден Креста Свободы был дополнен Крестом Маннергейма с денежной премией, присваиваемым за особый героизм.
Пожилой маршал несколько раз приезжал на фронт и присутствовал на различных патриотических мероприятиях, утешая сирот войны и родственников погибших.
Советское наступление в июне-июле 1944 г. заставило финскую армию уйти из Восточной Карелии и отступить к западу от Выборга на Карельском перешейке. В результате появилась готовность принять даже самые тяжелые условия мира. Для этого необходимо было сменить правительство и порвать отношения с Германией. Маннергейм согласился, и 4 августа 1944 г. парламент избрал его президентом республики.
С этого момента начался мирный процесс, для которого Маннергейму, по-видимому, удалось найти оптимальное время. Германия, как полагали, достаточно ослабла для того, чтобы, несмотря на свои военные позиции и контроль воздушного прстранства в Прибалтике, тратить силы на оккупацию Финляндии (как это произошло в Румынии), и слабые попытки Германии были отвергнуты с самого начала.
Советский Союз, в свою очередь, более не был заинтересован в полной капитуляции или же военной оккупации Финляндии, так как он сосредотачивал свои силы на прибалтийском, польском и германском направлениях.
Западные державы и Швеция были готовы политически и экономически поддерживать сепаратный мир Финляндии. Одновременно с этим финский народ после потери Восточной Карелии, Карельского перешейка и Выборга был готов принять тяжелые условия мира, принятие которых весной, когда армия еще не была разбита на Свири и Южном Перешейке, могли бы привести страну и армию к кризису лояльности.
Таким образом, в августе-сентябре 1944 г. Маннергейм при поддержке посла Финляндии в Стокгольме Г.А. Грипенберга руководил переговорами о мире, одновременно выступая в роли президента, главнокомандующего, а на практике и премьер-министра и министра иностранных дел (особенно после того, как премьер-министра Антти Хакцеля во время переговоров парализовало).
Маннергейм на короткое время сосредоточил всю власть в своих руках; его авторитет был необычайно важен с точки зрения формирования общественных настроений и руководства армией. Армия должна была быстро переориентироваться, поскольку отношения с Германией и немецкими войсками в Северной Финляндии были порваны, и, соответственно, предстояло установить взаимодействие с военными, а вскоре и с гражданскими представителями бывшего врага, Советского Союза.
Авторитет Маннергейма сохранял свое значение, когда после заключения перемирия в Хельсинки начала действовать Союзная контрольная комиссия и когда новое, сформированное Ю.К. Паасикиви политическое правительство в ноябре 1944 г. пришло на смену краткосрочным президентским («техническим») кабинетам Хакцеля и Урхо Кастрена.
На этом период сосредоточения власти в руках Маннергейма на время мирного процесса закончился, и, несмотря на большие сомнения, он был вынужден согласиться с назначением в правительство Паасикиви представителя коммунистов, министра внутренних дел Юрьё Лейно.
Но даже после этого Маннергейм оставался опорой правительства Паасикиви, особенно в связи с подозрениями правых, хотя активно и не поддерживал правительство и его новую политическую ориентацию, вероятно, потому, что не был уверен в политике правительства, а также потому, что хотел сохранить возможность смены кабинета.
Степень участия Маннергейма в руководстве государством уменьшилась также вследствие ухудшения здоровья. Он поехал в Стокгольм на операцию, а затем в отпуск в Португалию.
И хотя Маннергейм был избран президентом на чрезвычайный период, он, однако, не хотел уходить в отставку, к примеру, сразу после парламентских выборов весной 1945 г. Отчасти это объяснялось тем, что обстановка в мире оставалась неопределенной, так как война в Европе продолжалась до мая 1945 г., а отчасти тем, что Маннергейм опасался быть осужденным на судебном процессе над виновными в войне, который предусматривался условиями Соглашения о перемирии, и на скорейшем проведении которого настаивала Союзная контрольная комиссия.
Однако как в интересах финнов, так и в интересах Советского Союза было уберечь Маннергейма от этого, и когда это обстоятельство прояснилось, он в марте 1946 г. ушел в отставку.
Студенты выразили ему свое уважение факельным шествием, что в тех условиях было знаковым событием. Коммунисты также были готовы признать роль Маннергейма в достижении мира.
В дальнейшем Маннергейм, здоровье которого ухудшалось, находился в Стокгольме, но в основном в санатории «Вальмонт» в Монтре (Швейцарии). Там он вместе с помощниками, в число которых входили пехотный генерал Эрик Хейнрикс и полковник Аладар Паасонен, писал мемуары. Он рассказывал о своем жизненном пути помощникам, которые записывали их в виде глав будущей книги.
После этого Маннергейм проверял рукопись, иногда внося существенные исправления. К моменту смерти Маннергейма 27 января 1951 г. (28 января по финскому времени) работа была почти завершена, и это позволило опубликовать первый том в этом же году.
Тело Маннергейма было привезено в Финляндию, гроб был установлен с почестями (lit de parade) в Главной церкви Хельсинки (нынешний Кафедральный собор), и десятки тысяч людей в молчании прошли мимо него.
4 февраля 1951 г. Маннергейм был похоронен с полными воинскими почестями на Кладбище героев в Хиетаниеми. В этот морозный день почетный караул из солдат-резервистов, студентов и скаутов протянулся через весь город. По соображениям политической осторожности правительство решило не принимать участия в траурной церемонии. Несмотря на это, премьер-министр Урхо Кекконен и министр иностранных дел Оке Гарц участвовали в траурном шествии.
Речь в Главной церкви произнес председатель Парламента К.-А. Фагерхольм. То, что он был социал-демократом, символическим образом указывало на зародившееся еще в 1930-е гг. и укрепившееся во время войны понимание идеи признания исторического национального консенсуса в Финляндии. Это признавали все общественные группы и пресса, за исключением коммунистов.
Похороны Маннергейма, внимание и уважение к его фигуре, проявившееся затем за границей и, в особенности, на родине, которые значительно усилились после издания его мемуаров и открытия музея Маннергейма в его доме в Кайвопуйсто, означали идеологический поворотный момент, переход от «послевоенного» этапа с его отрицанием предшествовавшей истории к новому идентитету, подразумевающему единство и преемственность различных этапов финской истории - от царских времен и межвоенного периода, включая войну и послевоенные годы.
Еще в 1937 г. с согласия Маннергейма был создан фонд для сооружения конного памятника в его честь - первый в Финляндии. Некоторые обвиняли Маннергейма в тщеславии, но более существенным было, конечно же, то, что он осознавал потребность в символах, объединяющих нацию. Маннергейм стал символической фигурой еще в 1918 г., эта роль еще более усилилась в 1930-е гг. и во время войны. В этой своей «роли» он мог способствовать развитию национального идентитета в том направлении, в каком он считал необходимым.
Основными ценностями для него были европейская ориентация, т.е. близость к Швеции и западноевропейской культуре, поддержание боеготовности и, как необходимое условие для этого, - прочное национальное согласие, для чего требовалось преодолеть раскол, возникший в результате конфликта между красными и белыми, а также забота о здоровье и будущем детей и молодежи.
Он выступал против социализма как доктрины и Советского Союза как его воплощения, равно как и против национализма, проявившегося в Германии в форме национал-социализма, а в Финляндии - в форме «ультра-финских» движений. В языковом вопросе в Финляндии он выступал за атмосферу согласия.
Сам он, хорошо знавший языки и имевший большой международный опыт, считал важным поддержание международных контактов на разных уровнях. Он подчеркивал большую значимость внешней политики и понимания соотношения сил в мире, по сравнению с внутриполитическими разногласиями, мелким политиканством и юридическим буквоедством.
Во время Первой мировой войны Маннергейм осознал необходимость сохранения и заботы о личном составе, а в период войн 1939–1944 (1945) гг. он особенно заботился о минимизации людских потерь, об уходе за ранеными и о почестях павшим.
Проект создания конного памятника был возобновлен во многом благодаря инициативе Студенческого союза Хельсинкского университета, и это привело к трем результатам: к росту известности Маннергейма благодаря сбору средств и выпущенному для этого специальному значку, к возведению самого памятника, который, после нескольких конкурсов, был выполнен скульптором Аймо Тукиайненом и торжественно открыт 4 июня 1960 г., и к тому, что на оставшиеся средства среди прочего в собственность государства был выкуплен памятник истории - родной дом Маннергейма усадьба Лоухисаари.
Позднее памятники Маннергейму были установлены в нескольких городах Финляндии: Миккели, Лахти, близ Тампере и в Турку. Еще в 1930-е гг. были опубликованы две биографии Маннергейма (авторы Кай Доннер и Анни Войпио-Ювас).
После его смерти появился фильм, состоящий из документальных киноматериалов, в 1957–1959 гг. была издана первая масштабная и подробная биография Маннергейма, написанная его близким соратником пехотным генералом Эриком Хейнриксом.
В 1960-е гг. Фонд Маннергейма, созданный согласно его завещанию, главной задачей которого было посылать финских офицеров в зарубежные высшие военные училища, открыл архив писем, который достался фонду по завещанию, для родственника Маннергейма, шведского профессора Стига Ягершельда.
Весьма значимые архивные изыскания в разных странах, обнаружение писем и интервьюирование, проведенные Ягершельдом, вылились в масштабное восьмитомное произведение.
В то время, когда англичанин Д.Э.О. Скрин взялся за изучение российского периода жизни Маннергейма, стало уделяться внимание различным этапам культа Маннергейма. К его образу обращались в романах и пьесах (в частности, Пааво Ринтала, Илмари Турья).
В 1970-е гг. левое движение выступило с критикой Маннергейма, скорее, направленной против его культа. Из новейших исследований о Маннергейме наиболее значительным является книга Веийо Мери, психологически точная биография Маннергейма (1988).
Материал взят из Коллекции биографий «Сто замечательных финнов» на сайте Национальной финской библиотеки © Biografiakeskus, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, PL 259, 00171 HELSINKI
Приложение:
Карл Густав Эмиль Маннергейм, род. 4.6.1867, Аскайнен, умер 27.1.1951, Лозанна. Родители: граф Карл Роберт Маннергейм и Шарлотта Хелена фон Юлин. Жена: 1892–1919 Анастасия Арапова, род. 1872. умерла 1936б родители жены: генерал- майор Николай Арапов и Вера Казакова. Дети: Анастасия, род. 1893. умерла 1978; София, род. 1895, умерла 1963.
Густав Маннергейм: Биография гитлеровского союзника, факты геноцида, зверств над русскими финнов под его руководством.ФОТО,ВИДЕО
Кому соорудили памятную доску на стене военного училища в Санкт-Петербурге глава администрации президента Сергей Иванов и министр культуры Владимир Мединский...?
Из новостных сводок:
"Резкое неприятие частью жителей Петербурга открытия на Захарьевской улице памятной доски маршалу Карлу Маннергейму вылилось в акт вандализма. В ночь на воскресенье неизвестные залили доску красной краской. Сейчас полиция пытается с помощью записей с камер видеонаблюдения найти злоумышленников.

Напомним, что доска на фасаде здания Военной академии материально-технического обеспечения на Захарьевской улице была открыта 16 июня. В открытии принимал участие глава кремлевской администрации Сергей Иванов. До революции здесь находилась церковь Святых и праведных Захарии и Елизаветы, лейб-гвардии Кавалергардского полка. В этом полку служил Маннергейм.
Вопрос увековечения памяти Маннергейма вызвал неоднозначную реакцию в обществе. С одной стороны, этот финский военачальник с 1890 по 1917 годы служил в русской армии, участвовал в русско-японской и Первой мировой войнах. Однако после революции он переехал Финляндию, соорудил там систему оборонительных укреплений "линию Маннергейма", был главнокомандующим финской армией в 1939-1944 годах и воевал с СССР, став потом и президентом Финляндии.
Министр культуры России и председатель Военно-исторического общества РФ (РВИО) Мединский также заявил в ответ на критику установки доски, что «не надо стараться быть большим патриотом и коммунистом, чем Иосиф Виссарионович Сталин, который лично защитил Маннергейма».
По всей видимости, министр имел в виду историю, в которой Сталин со словами «Не трогать» вычеркнул имя Маннергейма из списка финских военных преступников, составленного Херте Куусиненом."
Финский мульфильм о кровавом педерасте Маннергейме
В Финляндии появился новый мультипликационный фильм. Что в этом удивительного? А то, что его автор - известный финский режиссер-мультипликатор Катарийна Лилльквист - попала под лавину писем и телефонных звонков с угрозами расправы. Дело дошло до вмешательства полиции. И все это происходит не в какой-то «горячей» южной стране, а в по-северному сдержанной Суоми.
Лилльквист посмела посягнуть на святое, чуть ли не на икону - национального героя Финляндии маршала Карла Маннергейма, который благодаря многолетним усилиям местных мифотворцев превратился по сути в финского Прометея.
В фокусе внимания режиссера оказались те стороны жизни легендарного маршала, о которых вслух не принято говорить, а именно: его гомосексуальность и неоправданная жестокость во время гражданской войны в Финляндии в 1918 году.
Кукольный мультфильм - наполовину реалистичный, наполовину фантастический - называется «Уральская бабочка». «Бабочка» - это юноша, которого Маннергейму привезли из-за Урала, и который стал одновременно его слугой и любовником. Когда в Финляндии вспыхнула гражданская война, Маннергейм во главе «белых» войск отправился со своей «бабочкой» усмирять «красных», то есть спасать государство.
Мультфильм основан на реальных событиях, происходивших в 1918 году в окрестностях Тампере. Там шли ожесточенные бои между «белыми» и «красными» финнами. Подавляя выступления «красных», многих из которых сгноили в концентрационных лагерях, Маннергейм отдавал приказы о массовом уничтожении военнопленных и гражданских лиц.
При этом его отряды перебили и много белых офицеров, простых горожан, женщин и детей, которые не имели никого отношения к "красным" - их убивали только потому, что они были русскими. Специально для тех, кто по незнанию (или по заданию) защищает "русского офицера" Маннергейма, якобы, "с честью воевавшего за белых против красных":
Егеря составляли ядро армии «русского генерала» Маннергейма. Это были финны, прошедшие подготовку в Германии и воевали в Первую мировую против русских. Яростных русофобов возглавил "военный пенсионер" К.Г. Маннергейм. (Очень любят с придыханием говорить, что «русский он знал лучше, чем финский»).
Чем же отметились его любимцы в Гражданскую?
Войдя в город Выборг 28-29 апреля 1918 года после отхода красной финской гвардии, егерские батальоны устроили в городе «чистку». Убивали красных и белых, военных и гражданских, взрослых и детей. Но в первую очередь - убивали русских.
Швед Ларс Вестерлунд выпустил книгу-исследование этого феномена «Мы ждали вас как освободителей, а вы принесли нам смерть...». Её надо давать читать курсантам училища перед заступлением на пост у мемориальной доски, что водрузили вчера власти на Захарьевской, 22 с целью расколоть общество и плюнуть в Историю.
Приведу несколько отрывков из этой работы.
Из записи от 2 и 3 мая в дневнике барона Пауля Эрнста Георга Николаи, владельца имения Монрепо:
«… Мадам Наумова пришла попросить сертификат для своего мужа. Ее сын, 16-летний мальчик, был схвачен и расстрелян в первый день, без всякой причины. Я думаю, услышали, что он говорит по-русски! Все русские названия улиц должны быть сняты в течение 48 часов. Это кажется идиотизмом в городе с таким большим русским населением».
Проводились как массовые расстрелы, так и и убийства во дворах.
Петербургская газета «Дело народа» писала о расстрелах в Выборгском замке. Согласно статье, 150 русских спрятались в находящихся напротив замка укреплениях. Всех их отвели в замок, где мужчин отделили от женщин. После этого мужчин поделили на группы по 20 человек и расстреляли во дворе замка. Среди расстреляных был и неизвестный полковник. Жены и матери смотрели на расстрел из окон и в ужасе от увиденного, некоторые из них сошли с ума.
Выборгский архитектор Виетти Нюканен рассказывал, как 29.04.1918 г. в 3.30 или 4.00 часа атакующие войска егерей захватили Выборгский замок: «Начиная с утра, егеря приводили в замок арестованных, среди которых было много людей с чинами и примерно десять человек из них позднее там же и расстреляли». Речь, очевидно, идет о русских представителях дворянства, чиновниках и офицерах, которых убили еще до начала массовых расстрелов в первую половину дня.
Портного Ивана Удалова расстреляли во дворе замка. Его жену Александру Капитоновну Удалову арестовали вечером 29.04.1918 г. в русском клубе возле площади Св. Анны. Всех остальных присутствующих также арестовали и отвезли в Выборгский замок.»
О массовом расстреле между валами у Фридрихсгамских ворот во второй половине дня 29.04.1918 г.
«Из здания железнодорожного вокзала принесли стол, за которым одетые в напоминавшую австрийскую униформу офицеры совещались 10 минут. Они объявили задержанным, что те приговорены к смертной казни, после чего отправили их на валы у Фридрихсгамских ворот».
Во второй половине дня 29.04.1918 г. собранных на Выборгском вокзале русских пленных заставили маршировать к западным выборгским укреплениям. Примерно в 15 часов, как только группу расставили между валами в четыре ряда у Фридрихсгамских ворот, привели в исполнение, вероятно, заранее спланированный и подготовленный массовый расстрел.
Очевидец, солдат Оскари Петениус, рассказывал об этом: «Один из заключенных попытался сбежать, и его застрелили посреди дороги. Когда все заключенные прошли через первые ворота укреплений, им приказали встать в левой части крепостного рва так, чтобы образовался прямой угол. Когда пленные подошли туда, солдаты - охранники окружили их. Рассказчик слышал, как им отдали приказ стрелять, но не знал кто приказал». Никакой возможности сбежать у заключенных не было. Их всех до единого расстреляли из винтовок, ручного оружия или при помощи гранат. Петениус тоже принимал участие в казни, произведя пять выстрелов из винтовки.
Видевший все командир выборгского щюцкора, капитан Микко Турунен рассказывал: «(...) их расстреливали между рвами, где была уже часть расстрелянных, и часть как раз в эту минуту расстреливаемых русских, около нескольких сотен. Расстрел производило примерно сто финляндских солдат, среди которых были и офицеры. Согласно наблюдениям рассказчика, получилось так, что сначала стреляли перекрестным огнем из винтовок, затем палачи спустились вниз в ров и добили одного за другим оставшихся в живых пленных».
Поверенный из города Вааса Ёста Бреклунд, который лично участвовал в расстреле, рассказывал о случившемся: «Пленных расставили во рву так, чтобы они образовали прямой угол. Охранявшим приказали выстроиться в цепочку перед пленными и стрелять. Первыми начали стрелять солдаты, находившиеся в начале процессии, затем все остальные, в том числе и рассказчик (...). Почти сразу, как только начали стрелять, большая часть заключенных упала на землю. Несмотря на это, стрельба продолжалась еще примерно пять минут. На валах были военные, егеря (...). Через некоторое время человек в немецкой егерской униформе приказал поднять винтовки и огонь прекратился, после чего мужчины подошли ближе к убитым. Затем сначала двое, один из которых был в немецкой егерской форме, начали из револьвера стрелять в головы раненых, но еще живых людей. Постепенно к ним присоединились и другие».
«…Зрелище было неописуемо ужасно. Тела расстрелянных лежали как попало, кто в какой позе. Стены валов были с одной стороны окрашены запекшейся кровью. Между валами было невозможно двигаться, земля превратилась в кровавое месиво. О поиске не могло быть и речи. Никто не смог бы осмотреть такие груды тел».
Сочувствующих белофиннам военных чиновников расстреливали так же легко: «Капитан ликвидационного управления Константин Назаров, по рассказам жены Анны Михайловны Назаровой, «вышел из дома в обозначенный день (29.04.1918 г.) в половину девятого утра поприветствовать белогвардейцев, и примерно в половину десятого пошел на вокзал, чтобы получить какое-либо разрешение на пребывание. Но на вокзале была большая очередь из ожидавших, и он отправился домой, а затем в свою контору по адресу Екатерининская улица 21, где его вместе с другими членами ведомства арестовали в 11 часов утра». Он ни коим образом не помогал красногвардейцам и не являлся большевиком. Назарова расстреляли между валами в тот же день.
Согласно информации, рассказанной бывшим смотрителем церкви Юхо Кочетовым, один живший в Выборге русский офицер в день взятия города «сбукетом в руках и в униформе пошел приветствовать белогвардейцев, но был вместо этого расстрелян».
Убивали мещан: «Торговый посредник Иван Прокофьев был убит 29.04.1918 г. между валами. Купец А. Ф. Вайтоя и домовладелец Юлиус Хяурюненподтверждают: «Юхана (Иван) Прокофьев не входил в красную гвардию и, тем более, не принимал участия в мятеже».
Убивали детей: «Самыми молодыми из убитых были 12-летний Сергей Богданов и 13-летний Александр Чубиков, которых расстреляли между валами. 14-летний сын рабочего Николай Гаврилов пропал. Возможно, это был тот самый мальчик, о котором рассказывал Импи Лемпинен: «я опять попал в группу, где шепотом говорили по-русски, было много русских. Там был и мой знакомый 14-летний мальчик, говоривший по-русски, который родился в Выборге. К группе устремился один изверг с веткой лапника на шапке и прокричал: «Разве вы не знаете, всех русских убивают?». Тогда этот молодой мальчик обнажил грудь и прокричал: «Здесь есть один русский, стреляйте». Изверг достал оружие и выстрелил, погибший мальчик был отважным русским».
В воспоминаниях некоего активиста из рабочих говорится о расстреле трех молодых русских на площади Красного колодца утром 29.04.1918 г. Согласно им, белые заметили в группе собранных на площади пленных «пару русских школьников лет 18-19. Также на голове одного мужчины средних лет была русская военная фуражка. «Русские, в строй!», - прокричал один егерь. Этих трех русских быстро отвели в ближайший двор, откуда сразу раздались выстрелы. Палачи вернулись смеясь»...
Движение егерей начало активно расширять круг своих приверженцев в Финляндии в 1914 году особенно в университетской среде и привело к инициативе военного обучения финских добровольцев в Королевском прусском 27 егерском батальоне германской армии в 1915−1918 годах.
Но не все егеря были так верны правительству, как обычно считают. За время обучения коллектив егерей сплотился в единую группу и им было важно и в Финляндии действовать сообща. Вильгельм Тхеслеф выразил идею — образовать на основе 27-го батальона сильную ударную группу. Егеря были бы костяком бригады, численность бы дополнилась из охранных отрядов. Бригаду должны были усилить два пехотных полка, конница, батарея полевой артиллерии и рота разведки. Главнокомандующий только ещё создаваемой финской армии Маннергейм выступил против этой инициативы. Он опасался, что сражаясь одной единицей, егеря подвержены риску полного поражения . «…я сильно убежден в том, что это приведёт к уничтожению белой армии», сказал он, докладывая о ситуации сенатору Ренвалле..."
Об этих жертвах гражданской войны в Финляндии до сих пор не принято вспоминать. Не менее жестоко финны убивали русских солдат и офицеров во время Великой Отечественной. В Финляндии молчат о том, что они делали с пленными русскими.
"БЕССМЕРНЫЙ ПОЛК ПУТИНА"
Цитаты из финских газет:+
Снова бьет наша артиллерия. Пять батарей одновременно начинают посылать снаряды ленинградцам. (газета Ууси Суоми).
Бомбардировка Ленинграда - величественное зрелище. Нет сомнения, что тысячи и еще тысячи, особенно из гражданского населения, погибнут в этой игре. (газета Илкка).
Ленинград попадет в наши руки в виде руин. Жители погибнут от голода. (газета Суомен Саномат).
Теперь этот город Ленинград должен погибнуть. (газета Ани Суунта).
9 июня 1944 года началась Выборгско-Петрозаводская операция. Советские войска при активной поддержке Балтийского флота взломали оборону финнов на Карельском перешейке и 20 июня взяли штурмом Выборг. Корреспондент газеты «Правда» сообщал 25 июня: «С каждым километром продвижения по земле, освобождаемой от врага, перед нашими воинами всё шире развертывается картина кровавых злодеяний финнов. В самом начале наступления на Карельском перешейке бойцы одного из наших подразделений, ворвавшиеся в поселок Тудокас, увидели около пылавшего дома изуродованный труп красноармейца. Спина его была исколота штыками, кисти рук отрезаны... Чудовищным пыткам был подвергнут красноармеец Лазаренко, попавший в лапы маннергеймовцев. Финские палачи вогнали ему в ноздри патроны, а на груди раскаленным шомполом выжгли пятиконечную звезду. Но и этого показалось мало гнусным садистам. Они разбили своей жертве череп и запихали внутрь сухари».+
Из доклада о злодеяниях белофиннов на временно оккупированной территории СССР, направленного начальнику ГлавПУРККА А.С. Щербакову его заместителем И.В. Шикиным (Москва, 28 июля 1944 года): «Собран многочисленный материал относительно зверской расправы финских белобандитов над пленными, особенно ранеными, советскими бойцами и офицерами. Он свидетельствует о диких, варварских истязаниях и пытках, которым подвергали финские садисты свои жертвы перед тем, как умертвить их. Множество найденных трупов замученных советских офицеров и бойцов имеет ножевые раны, у многих отрезаны уши, нос, выколоты глаза, конечности вывернуты из суставов, на теле вырезали полосы кожи и пятиконечные звезды. Финские изверги практиковали сжигание людей заживо на костре. 25.VI —1944 г. на берегу Ладожского озера найден труп неизвестного красноармейца, заживо сваренного на костре в большой железной бочке. Из показаний военнопленных видно, что среди белофинской солдатни нашел распространение дикий, каннибальский обычай вываривания голов умерщвленных советских военнопленных с целью отделения мягких покровов от черепа. Не менее ужасна участь советских военнопленных, которым в первую минуту была сохранена жизнь. В концлагерях был установлен режим, рассчитанный на вымирание военнопленных медленной, мучительной смертью. Когда в иностранной, в том числе швейцарской, печати появились сообщения о варварском режиме и высокой смертности в финских лагерях для военнопленных, Маннергейм вынужден был в декабре 1942 г. выступить со следующим заявлением: “Английская информация утверждает, что в лагерях для военнопленных в Финляндии умерло от голода 20.000 пленных. До августа этого года действительно умерло 12.000 пленных...”».+
Согласно приказу главнокомандующего финской армией фельдмаршала Маннергейма от 8 июля 1941 г. все «инородцы», то есть русские, направлялись в концентрационные лагеря в рамках программы этнических чисток. По данным доктора исторических наук С.Г. Веригина (Петрозаводский государственный университет), «в 1941—1944 гг. финские войска оккупировали две трети территории Советской (Восточной) Карелии, на которой осталось около 86 тыс. местных жителей, считая и перемещенных из Ленинградской области. Родственные финнам в этническом отношении карелы, вепсы, представители других финно-угорских народов должны были остаться на своей территории и стать будущими гражданами Великой Финляндии. Этнически не родственные финнам местные жители, в основном русские, рассматривались как иммигранты, не националы или инонационалы (эти термины использовались в документах финских властей)».+
Н.И. Барышников в книге «Пять мифов в военной истории Финляндии 1940—1944 гг.» отмечает: «Наличие такого приказа Маннергейма все время тщательно скрывалось в официальной финской историографии, хотя указанный документ существует и хранится в Военном архиве Финляндии. Это секретный приказ № 132, подписанный главнокомандующим 8 июля 1941 г., за день до перехода в наступление финских войск — карельской армии в направлении севернее Ладожского озера. В пункте четыре приказа говорилось: “Русское население задерживать и отправлять в концлагеря”».
В сборнике «Чудовищные злодеяния финско-фашистских захватчиков на территории Карело-Финской ССР (Сборник документов и материалов, Государственное издательство Карело-Финской ССР, 1945) в сообщении Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников говорится, что правительство и верховное военное командование Финляндии стремились превратить Карело-Финскую ССР в колонию. В наставлении Финского штаба, захваченном Красной Армией в июне 1944 года, сказано: «Если в Финляндии теперь недостает строительного леса, то богатые леса Восточной Карелии ждут превращения их в капитал».+
К концу 1941 года в концлагерях было около 20 тыс. человек, в подавляющем большинстве русские. Наибольшее их количество пришлось на начало апреля 1942 года — около 24 тыс. человек, или около 27 % всего населения, находившегося в зоне оккупации. Для русского населения Олонецкого округа, а также жителей Вологодской и Ленинградской областей, переселенных на оккупированную территорию Советской Карелии в начальный период войны, были созданы концентрационные лагеря в деревнях Видлица, Ильинское, Кавгозеро, Погранкондуши, Паалу и Усланка, а также шесть концлагерей в Петрозаводске. Всего же в период финской оккупации Карелии было создано 14 концлагерей для гражданского населения. По данным карельского историка К.А. Морозова, в результате тяжелого принудительного труда, плохого питания, голода, эпидемий, расстрелов в лагерях погибло свыше 14 тыс. советских людей, или 1/5 оставшихся на оккупированной территории. Единственной их виной было то, что они были не-финнами, а также не относились к группе «хеймокансалайнен» («соплеменники», т. е. карелы, вепсы и ижорцы). В отношении «провинившихся» применялись пытки и расстрелы. В эту статистику не входят данные о лагерях для военнопленных, первые из которых начали создавать ещё в июне 1941 года и режим в которых мало чем отличался от режима концентрационных лагерей.+
А то, что делали белофинны с пленными на поле боя, вообще не поддаётся никакому разумному объяснению. 28 июня 1944 года у деревни Тоску-Сельга на группу раненых красноармейцев напали финны. Они наносили им удары ножом по лицу, разбивали головы прикладами и топорами и умертвили таким образом 71 раненого красноармейца. Так, у гвардии лейтенанта Сыч череп расколот надвое и выколоты глаза, у гвардии рядового Князева пять штыковых ран на лице, у гвардии сержанта Артемова изрезано лицо бритвой, вывернуты руки назад, один раненый облит бензином и обожжен (труп опознать нельзя).+
4 июля 1944 года на участке обороны, отбитом нашими бойцами, рядом с окопом лежал труп старшего сержанта. Орудие своего зверства - большой финский нож - финны оставили воткнутым в грудь советского воина. Руки старшего сержанта были выпачканы в крови, а положение трупа доказывало, что бандиты засовывали руки старшего сержанта в его перерезанное горло. По найденной красноармейской книжке установлено, что это был старший сержант Бойко. Недалеко от Бойко находились трупы других бойцов. У одного бойца финны отрезали ухо, у другого продолбили во лбу огромную дыру, у третьего выкололи глаза.+
(слева: кожа, снятая финнами с пленного русского солдата)
20 июня 1944 года при занятии 7-й ротой 3-го стр. батальона 1046 сп обороны финнов была обнаружена в траншее финнов, перед входом в землянку командного пункта, голова неизвестного советского бойца, надетая на кол, вбитый перед дверью заминированной землянки.+
В газете «Комсомольская правда» от 11 августа 1944 года опубликовано письмо старшего лейтенанта В. Андреева:+
«Дорогой товарищ редактор! Взгляните вот на это фото. На нем снят лейтенант финской армии Олкинуоря. В руках к него череп замученного и убитого им красноармейца. Как показали пленные, этот зверь в мундире решил сохранить «на память» череп своей жертвы и приказал солдатам выварить его в котле и очистить. И в чемодане у взятого в плен фина Саари мы нашли фотоснимки вроде этого. Саари истязал пленных, отрубал им руки и ноги, вспарывал животы. Он даже установил систему: сначала отрубал ступни, кисти рук, потом голени, предплечья и только потом отсекал голову».
Пленный капрал 4-й роты 25-го батальона 15-й финской пехотной дивизии Кауко Иоганнес Хаикисуо 6 июля 1944 года показал: «Я слышал от солдатаМаркуса Койвунен такой случай. Один взвод глубокой разведки бронедивизии Лагуса поймал весной 1943 г. где-то в Карелии красноармейца. Финские разведчики скальпировали красноармейца, повесили скальп на сук, а затем убили пленного. Из этого вы можете заключить, как у нас относятся к русским военнопленным».+
Август Лаппетеляйнен, сержант медицинской службы 7-й роты 30-го пп 7-й пд финской армии сделал следующее заявление командованию Красной Армии:
«25 апреля 1943 года я и командир 2-го взвода фельдфебель Эско Саволайнен отправились на КП 7-й роты. Командир роты Сеппо Русанен обратился ко мне: “Послушайте, младший сержант. У меня для вас есть задание: мне нужно достать человеческий череп, и вам, как медицинскому работнику, нужно будет выварить голову, чтобы достать череп”. 26 апреля командир роты позвонил мне. Проехали около 2 км. Там был расположен опорный пункт Калле, куда зимой делали нападение русские разведчики. Здесь были убиты три красноармейца, их трупы валялись неубранными. Когда мы с командиром взвода осмотрели эти трупы, то он нашел подходящую голову, я находящимся при мне топором отрубил голову. Затем лейтенант сказал мне: “Возьмите эту голову на лопату, а я ее сфотографирую”. Затем лейтенант сказал мне, что я ее должен буду выварить как можно быстрее, чтобы она не испортилась. До того, как я положил голову в котел, пришел лейтенант и еще раз сфотографировал ее. После этого я видел этот череп на его рабочем столе. А затем в первых числах августа Русанен поехал в отпуск и взял этот череп с собой. По рассказам солдат отделения управления Лиявала и Рясянен, Русанен отвез череп в подарок своей невесте» (перевод с финского).
Солдат 101-го финского пехотного полка Аариэ Энсио Мойланен на допросе показал: «Разведывательно-диверсионный отряд, участником которого я являюсь, поджег деревню Койкари… женщины бежали нам навстречу и просили их не расстреливать. Мы изнасиловали некоторых из этих женщин и расстреляли всех. Никого не оставили. У меня в памяти осталась красивая девочка, которую мы с товарищами изнасиловали, а после расстреляли».+
Финны истязали не только взрослых, но и детей. Пленный финский солдат 13-й роты 20-й пехотной бригады Тойво Арвид Лайне показал: «В первых числах июня 1944 года я был в Петрозаводске. В лагере помещались дети от 5 до 15 лет. На детей было жутко смотреть. Это были маленькие живые скелеты, одетые в невообразимое тряпье. Дети были так измучены, что разучились плакать и на все смотрели безразличными глазами».+
Для «правонарушителей», преимущественно состоявших из женщин и детей, были созданы лагери специального назначения в Кутижме, Вилге, Киндасове, не уступавшие средневековым казематам. «Здесь узники лагерей питались мышами, лягушками, дохлыми собаками. Тысячи пленных умирали от кровавого поноса, тифозной горячки, воспаления легких. Врач-зверь Колехмайнен вместо лечения бил больных палками и выгонял на мороз». Под этим письмом подписалось 146 советских граждан, бывших заключенных петрозаводских лагерей.+
Комиссия с участием главного судебно-медицинского эксперта Карельского фронта майора Петропавловского, главного патолога Карельского фронта, доктора медицинских наук, подполковника Ариэль, осмотрев петрозаводское кладбище «Пески», обнаружила 39 групповых могил, в которых захоронено не менее 7 тыс. трупов. Причиной смерти большинства погребенных явилось истощение. У части трупов имелись сквозные повреждения черепа огнестрельным оружием.+
Захваченный в плен Красной Армией заместитель начальника Олонецкого лагеря № 17 для военнопленных Пелконен на допросе показал: «Я полностью разделял проводимую финнами фашистскую пропаганду. В лице русской национальности я видел исконных врагов моей страны. С таким мнением я пошел воевать против русских. Мой начальник, лейтенант Соининен говорил, что русские даже в плену продолжают оставаться для финнов врагами».+
Чрезвычайная Государственная Комиссия установила, что виновными за все злодеяния, совершенные финско-фашистскими захватчиками, являются, в первую очередь, финское правительство и командование армии. Таким образом, фельдмаршал Маннергейм безусловно является военным преступником.+
Касательно мифа о том, что
"МАННЕРГЕЙМ НЕ ХОТЕЛ ПРИЧИНИТЬ ВРЕДА ПЕТЕРБУРГУ"
Финская артиллерия в расчете на одно орудие выпустила снарядов в сторону Ленинграда не меньше немецкой, но до Ленинграда они не долетели не из-за любви барона к городу, а из-за законов физики. Ближайшая точка к Ленинград у финнов находилась в 35 км, а у немцев в 10. Поэтому немцы расстреливали Ленинград даже дивизионной артиллерией. Не говоря про мощнейшую группировку тяжелых и сверхтяжелых орудий.


У финнов таких орудий было мало, но они были, и по Ленинграду пусть и не так много как немцы, но стреляли - известны несколько случаев попаданий в важные объекты "не с той" стороны, в том числе попадание тяжелым снарядом в бомбоубежище, вызвавшее большие жертвы. Это были результаты артогня с финской территории. Да и остальная финская артиллерия беспощадно била по советской земле надежно замыкая блокадное кольцо, и добросовестно выполняя приказ Гитлера:+
"Ни один житель Ленинграда не должен выйти за кольцо окружения, город должен быть полностью уничтожен артиллерией и авиацией".
Директор Военного музея Карельского перешейка, российский военный писатель Баир Иринчеев:
УСТАНОВКА ПАМЯТНОЙ ДОСКИ МАННЕРГЕЙМУ ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬШОЙ ОШИБКОЙ
При этом приводились следующие доводы: мол, Маннергейм был русский генерал, слуга императора, белый. Это часть тенденции по романтизации имперского периода России и попытка забыть все то, что было в советский период. Сторонники доски говорят: давайте забудем, что Маннергейм был союзником нацистской Германии с 1941 по 1944 год, и вспомним, как он нес хоругви на коронации Николая II. Но так разрывать биографию одного человека просто нельзя. Это антинаучно.
В результате "попытка преодолеть произошедший после Октябрьской революции трагический раскол в обществе" привела к явно противоположным последствиям. Это можно увидеть по сложившейся дискуссии. Маннергейм после 1917 года вернулся в Финляндию, служил там. Он не препятствовал массовым расстрелам населения в Выборге, когда туда вошла его белая армия. После победы белой армии в Финской гражданской войне весной 1918 года был его приказ «Клятва меча». Он тогда сказал: «Я не вложу меч в ножны, пока народы Карелии не будут свободны от ига большевизма». Он был обеими руками за экспансию Финляндии и присоединение к ней Республики Карелии. В 1919 - 1922 годах он никоим образом не противостоял военным экспедициям - вторжению в Карелию финских добровольческих отрядов. В 1941 году финская армия не остановилась у границ 1920 года, взяла Олонецк, Медвежьегорск, форсировала Свирь, заняла Подпорожье. Начиная с 1918 года Маннергейм поддерживал отделение Карелии от России и в 1941 году это осуществил. И только в 1944 году, когда понял, что Советский Союз не будет повержен, от этого отказался. Какое преодоление раскола?
В августе 1944 года, когда разгром Германии стал очевидным, Финляндия официально "вышла из войны". Тогда Маннергейм сменил на посту президента Финляндии Ристо Рюти. Это было сделано молниеносно, для того, чтобы избавить Финляндию от обещания Рюти быть с нацистской республикой до конца (такое письмо он подписал Гитлеру 23 июня 1944 года). 24 августа Маннергейм стал президентом и дал Советскому Союзу сигнал, что готов выполнить поставленные условия перемирия. условия. Сталин, как очень прагматичный политик понял: Маннергейм в Финляндии - фигура уважаемая и компромиссная, и если его взять и повесить, то у правых партий будет свой мученик. Все преступления были повешены на Ристо Рюти. Его свои же посадили на 7 лет как военного преступника, он вышел достаточно быстро по УДО. Маннергейм же был исключен из списка военных преступников, но это не равносильно тому, чтобы вешать ему памятную доску.
Я немного общаюсь с финнами, но правые не в восторге, так как настроены русофобски. Левые же говорят, что в Тампере памятник Маннергейму раз пять обливали краской в память о кровавой бойне весной 1918 года. У Финляндии много своих внутренних проблем, и фигура слегка забытая. В следующем году это снова станет актуально: Финляндия будет отмечать 100-летие независимости и в 2018 году - 100-летие гражданской войны.
Кстати, сама доска Маннергейму содержит ошибки: на ней указана дата окончания службы - 1918 год, а он тогда уже командовал белой армией в Финляндии и отворачивался, когда стреляли в русских офицеров. В целом установка доски - это попытка встать на сторону белых и взять реванш за их поражение, а вовсе не попытка преодолеть раскол.
В этом смысле поразительным выглядят действия властей, которые с одной стороны "осуждают фашизм", ходят на акцию "Бессмертный полк", пишут книги о виновности Финляндии в смерти миллиона блокадников, а потом устанавливают памятник непосредственному организатору геноцида... (ниже копии страниц из книги нынешнего министра культуры В.Мединского+


У нас есть свое объяснение произошедшему. И речь идет не только о "попытках примирения", "тайных гомосексуальных поклонников" и "демонстрации дружественных знаков" во время шабаша Петербургсого международного экономического форума. Мы предлагаем взглянуть на «теорию и практика олигархического коллективизма» правящего режима путина через призму антиутопии практикующего идеолога ВВС Дж. Оруэлл
ДВОЕМЫСЛИЕ, КАРЛ!
Двоемыслие (англ. doublethink) — способность придерживаться двух противоположных убеждений одновременно.
Смысл двоемыслия:
«Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоречащих друг другу убеждений. Партийный интеллигент знает, в какую сторону менять свои воспоминания; следовательно, осознаёт, что мошенничает с действительностью; однако при помощи двоемыслия он уверяет себя, что действительность осталась неприкосновенна. Этот процесс должен быть сознательным, иначе его не осуществишь аккуратно, но должен быть и бессознательным, иначе возникнет ощущение лжи, а значит, и вины.Двоемыслие — душа ангсоца, поскольку партия пользуется намеренным обманом, твёрдо держа курс к своей цели, а это требует полной честности. Говорить заведомую ложь и одновременно в неё верить, забыть любой факт, ставший неудобным, и извлечь его из забвения, едва он опять понадобился, отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь, — всё это абсолютно необходимо. Даже пользуясь словом „двоемыслие“, необходимо прибегать к двоемыслию. Ибо, пользуясь этим словом, ты признаёшь, что мошенничаешь с действительностью; ещё один акт двоемыслия — и ты стёр это в памяти; и так до бесконечности, причём ложь всё время на шаг впереди истины.
Посетит мемориальное кладбище "Хиетаниеми", возложит венок к Кресту героев и могиле маршала Маннергейма и посетит один из старейших городов страны - Порвоо.
Карл Густав Эмиль Маннергейм родился 4 июня 1867 года в родовом имении Лоухисаари, близ Турку (Финляндия) в семье графа Карла Роберта Маннергейма и графини Элен Маннергейм, урожденной фон Юлин.
В 1882‑1886 годы Карл учился в Финляндском кадетском корпусе, но был исключен за нарушения дисциплины. Окончив частный лицей в Хельсинки, в 1987 году поступил в Николаевское кавалерийское училище в Санкт‑Петербурге.
В 1889‑1890 годах служил в 15‑м драгунском Александрийском полку, расквартированном в Польше, с 1891 года - в Кавалергардском полку. В 1893 году получил звание поручика, в 1901 году - штабс‑ротмистра. В 1897‑1903 годах находился на службе при императорском дворе в Петербурге.
Маннергейм участвовал в русско‑японской войне 1903‑1905 годов, воевал в составе 52‑го Нежинского драгунского полка. За год боевых действий в Маньчжурии был трижды удостоен боевых наград и произведен в полковники (1905). В 1906‑1908 годах он руководил разведывательной экспедицией на российско‑китайской границе. Во время экспедиции Маннергейм также вел и научную работу.
В 1908 году Маннергейм был назначен командиром 13‑го уланского Владимирского полка, а в 1910 году произведен в генерал‑майоры и назначен командиром Лейб‑гвардии Уланского Его Величества полка, стоявшего в Варшаве.
Во время Первой мировой войны Маннергейм командовал разными частями действующей русской армии, с 1915 года - 12‑й кавалерийской дивизией. За бои в конце 1914 года награжден орденом Святого Георгия 4‑й степени. С 1917 года - генерал‑лейтенант. В мае 1917 года был назначен командиром VI кавалерийского корпуса, действовавшего в составе 6‑й армии.
После прихода к власти большевиков Маннергейм уехал в Финляндию , которая в декабре 1917 года провозгласила независимость от России. Маннергейм стал одним из лидеров движения за обретение Финляндией государственной независимости и вооруженной борьбы с левыми силами в этой стране.
16 января 1918 года сенат назначил Маннергейма главнокомандующим финской армией. В январе‑мае 1918 года он командовал войсками во время гражданской войны в Финляндии. После неудачи с избранием королем Финляндии германского принца Фридриха Карла Гессенского Маннергейм с декабря 1918 по июль 1919 года исполнял обязанности регента (временного правителя). 17 июля 1919 года Финляндия была провозглашена республикой, 25 июля 1919 года Маннергейм передал государственную власть избранному президентом Финской республики Каарлу Стольбергу, оставшись главнокомандующим армией. В 1920 в знак протеста против реформирования армии по германскому образцу Маннергейм вышел в отставку.
В 1931 году Маннергейм стал председателем Совета обороны Финляндии. Провел реорганизацию и перевооружение армии (в 1937 году по его инициативе был принят 7‑летний план перевооружения), фактически создал финские ВВС. Убежденный в неизбежности войны с СССР, Маннергейм добился финансирования строительства "линии Маннергейма" - глубоко эшелонированной системы оборонительных укреплений на Карельском перешейке. На основе этой системы укреплений во время так называемой Зимней войны (советско‑финляндской войны 1939‑1940 годов), будучи главнокомандующим финскими вооруженными силами, разработал успешную оборонительную стратегию.
В 1941‑1944 годах Карл Маннергейм возглавил финские вооруженные силы в войне против СССР. С 1942 года он был маршалом Финляндии.
4 августа 1944 года парламент Финляндии избрал Маннергейма президентом страны. По его инициативе Финляндия заключила перемирие с СССР и начала военные действия против Германии в Северной Финляндии.
В 1946 году Маннергейм ушел в отставку. Последние годы прожил в Лозанне, Швейцария, на берегу Женевского озера.
Карл Маннергейм скончался 27 января 1951 года, похоронен на военном кладбище Хиетаниеми в Хельсинки. В центре Хельсинки в 1960 году был установлен памятник Маннергейму . Его день рождения - 4 июня - отмечается как праздник в вооруженных силах Финляндии.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников