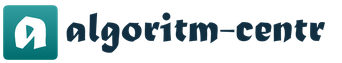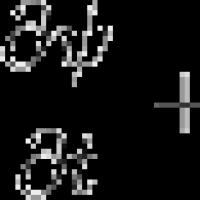«Братская ГЭС. Читать онлайн "братская гэс"
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Евгений Евтушенко
БРАТСКАЯ ГЭС
Поэма
МОЛИТВА ПЕРЕД ПОЭМОЙ
Поэт в России – больше чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,
кому уюта нет, покоя нет.Поэт в ней – образ века своего
и будущего призрачный прообраз.
Поэт подводит, не впадая в робость,
итог всему, что было до него.Сумею ли? Культуры не хватает...
Нахватанность пророчеств не сулит...
Но дух России надо мной витает
и дерзновенно пробовать велит.И, на колени тихо становясь,
готовый и для смерти и победы,
прошу смиренно помощи у вас,
великие российские поэты...Дай, Пушкин, мне свою певучесть,
свою раскованную речь,
свою пленительную участь -
как бы шаля, глаголом жечь.Дай, Лермонтов, свой желчный взгляд,
своей презрительности яд
и келью замкнутой души,
где дышит, скрытая в тиши,
недоброты твоей сестра -
лампада тайного добра.Дай, Некрасов, уняв мою резвость,
боль иссеченной музы твоей -
у парадных подъездов, у рельсов
и в просторах лесов и полей.
Дай твоей неизящности силу.
Дай мне подвиг мучительный твой,
чтоб идти, волоча всю Россию,
как бурлаки идут бечевой.О, дай мне, Блок, туманность вещую
и два кренящихся крыла,
чтобы, тая загадку вечную,
сквозь тело музыка текла.Дай, Пастернак, смещенье дней,
смущенье веток,
сращенье запахов, теней
с мученьем века,
чтоб слово, садом бормоча,
цвело и зрело,
чтобы вовек твоя свеча
во мне горела.Есенин, дай на счастье нежность мне
к березкам и лугам, к зверью и людям
и ко всему другому на земле,
что мы с тобой так беззащитно любимДай, Маяковский, мне
глыбастость,
буйство,
бас,
непримиримость грозную к подонкам,
чтоб смог и я,
сквозь время прорубаясь,
сказать о нем
товарищам потомкам.
ПРОЛОГ
За тридцать мне. Мне страшно по ночам.
Я простыню коленями горбачу,
лицо топлю в подушке, стыдно плачу,
что жизнь растратил я по мелочам,
а утром снова так же ее трачу.
Когда б вы знали, критики мои,
чья доброта безвинно под вопросом,
как ласковы разносные статьи
в сравненье с моим собственным разносом,
вам стало б легче, если в поздний час
несправедливо мучит совесть вас.
Перебирая все мои стихи,
я вижу: безрассудно разбазарясь,
понамарал я столько чепухи...
а не сожжешь: по свету разбежалась.
Соперники мои,
отбросим лесть
и ругани обманчивую честь.
Размыслим-ка над судьбами своими.
У нас у всех одна и та же есть
болезнь души.
Поверхностность ей имя.
Поверхностность, ты хуже слепоты.
Ты можешь видеть, но не хочешь видеть.
Быть может, от безграмотности ты?
А может, от боязни корни выдрать
деревьев, под которыми росла,
не посадив на смену ни кола?!
И мы не потому ли так спешим,
снимая внешний слой лишь на полметра,
что, мужество забыв, себя страшим
самой задачей – вникнуть в суть предмета?
Спешим... Давая лишь полуответ,
поверхностность несем, как сокровенья,
не из расчета хладного, – нет, нет! -
а из инстинкта самосохраненья.
Затем приходит угасанье сил
и неспособность на полет, на битвы,
и перьями домашних наших крыл
подушки подлецов уже набиты...
Метался я... Швыряло взад-вперед
меня от чьих-то всхлипов или стонов
то в надувную бесполезность од,
то в ложную полезность фельетонов.
Кого-то оттирал всю жизнь плечом,
а это был я сам. Я в страсти пылкой,
наивно топоча, сражался шпилькой,
где следовало действовать мечом.
Преступно инфантилен был мой пыл.
Безжалостности полной не хватало,
а значит, полной жалости...
Я был
как среднее из воска и металла
и этим свою молодость губил.
Пусть каждый входит в жизнь под сим обетом:
помочь тому, что долженствует цвесть,
и отомстить, не позабыв об этом,
всему тому, что заслужило месть!
Боязнью мести мы не отомстим.
Сама возможность мести убывает,
и самосохранения инстинкт
не сохраняет нас, а убивает.
Поверхностность – убийца, а не друг,
здоровьем притворившийся недуг,
опутавший сетями обольщений...
На частности разменивая дух,
мы в сторону бежим от обобщений.
Теряет силы шар земной в пустом,
оставив обобщенья на потом.
А может быть, его незащищенность
и есть людских судеб необобщенность
в прозренье века, четком и простом?!
...Я ехал по России вместе с Галей,
куда-то к морю в «Москвиче» спеша
от всех печалей...
Осень русских далей
пообок золотела все усталей,
листами под покрышками шурша,
и отдыхала за рулем душа.
Дыша степным, березовым, соснистым,
в меня швырнув немыслимый массив,
на скорости за семьдесят, со свистом,
Россия обтекала наш «Москвич».
Россия что-то высказать хотела
и что-то понимала, как никто.
Она «Москвич» вжимала в свое тело
и втягивала в самое нутро.
И, видимо, с какою-то задумкой,
скрывающей до срока свою суть,
мне подсказала сразу же за Тулой
на Ясную Поляну повернуть.
И вот в усадьбу, дышащую ветхо,
вошли мы, дети атомного века,
спешащие, в нейлоновых плащах,
и замерли, внезапно оплошав.
И, ходоков за правдою потомки,
мы ощутили вдруг в минуту ту
все те же, те же на плечах котомки
и тех же ног разбитых босоту.
Немому повинуясь повеленью,
закатом сквозь листву просквожены,
вступили мы в тенистую аллею
по имени «Аллея Тишины».
И эта золотая просквоженность,
не удаляясь от людских недоль,
снимала суету, как прокаженность,
и, не снимая, возвышала боль.
Боль, возвышаясь, делалась прекрасной,
в себе соединив покой и страсть,
и дух казался силою всевластной,
но возникал в душе вопрос бесстрастный -
и так ли уж всевластна эта власть?
Добились ли каких-то изменений
все те, кому от нас такой почет,
чей дух обширней наших измерений?
Добились?
Или все как встарь течет?
А между тем – усадьбы той хозяин,
невидимый, держал нас на виду
и чудился вокруг: то проскользая
седобородым облаком в пруду,
то слышался своей походкой крупной
в туманности дымящихся лощин,
то часть лица являл в коре огрублой,
изрезанной ущельями морщин.
Космато его брови прорастали
в дремучести бурьянной на лугу,
и корни на тропинках проступали,
как жилы на его могучем лбу.
И, не ветшая, – царственно древнея,
верша вершинным шумом колдовство,
вокруг вздымались мощные деревья,
как мысли неохватные его.
Они стремились в облака и недра,
шумели все грознее и грозней,
и корни их вершин росли из неба,
вглубь уходя вершинами корней...
Да, ввысь и вглубь – и лишь одновременно!
Да, гениальность – выси с глубью связь!..
Но сколькие живут все так же бренно,
в тени великих мыслей суетясь...
Так что ж, напрасно гениям горелось
во имя изменения людей?
И, может быть, идей неустарелость -
свидетельство бессилия идей?
Который год уже прошел, который,
а наша чистота, как во хмелю,
бросается Наташею Ростовой
к лжеопыту – повесе и вралю!
И вновь и вновь – Толстому в укоренье -
мы забываем, прячась от страстей,
что Вронский – он черствее, чем Каренин,
в мягкосердечной трусости своей.
А сам Толстой?
Собой же поколеблен,
он своему бессилью не пример, -
беспомощно метавшийся, как Левин,
в благонаивном тщанье перемен?..
Труд гениев порою их самих
пугает результатом подсомненным,
но обобщенья каждого из них,
как в битве, – сантиметр за сантиметром.
Три величайших имени России
пусть нас от опасений оградят.
Они Россию заново родили
и заново не раз ее родят.
Когда и безъязыко и незряче
она брела сквозь плети, батожье,
явился Пушкин просто и прозрачно,
как самоосознание ее.
Когда она усталыми глазами
искала своих горестей исток, -
как осмысленье зревшего сознанья,
пришел Толстой, жалеюще-жесток,
но – руки заложив за ремешок.
Ну, а когда ей был неясен выход,
а гнев необратимо вызревал, -
из вихря Ленин вырвался, как вывод,
и, чтоб ее спасти, ее взорвал!
Так думал я запутанно, пространно,
давно оставив Ясную Поляну
и сквозь Россию мчась на «Москвиче»
с любимой, тихо спящей на плече.
Сгущалась ночь, лишь слабо розовеясь
по краешку...
Летели в лоб огни.
Гармошки заливались.
Рыжий месяц
заваливался пьяно за плетни.
Свернув куда-то в сторону с шоссе,
затормозил я, разложил сиденья,
и мы поплыли с Галей в сновиденья
сквозь наважденья звезд – щека к щеке...
Мне снился мир
без немощных и жирных,
без долларов, червонцев и песет,
где нет границ, где нет правительств лживых,
ракет и дурно пахнущих газет.
Мне снился мир, где все так первозданно
топорщится черемухой в росе,
набитой соловьями и дроздами,
где все народы в братстве и родстве,
где нет ни клеветы, ни поруганий,
где воздух чист, как утром на реке,
где мы живем, навек бессмертны,
с Галей,
как видим этот сон – щека к щеке...
Но пробудились мы...
«Москвич» наш дерзко
стоял на пашне, ткнувшийся в кусты.
Я распахнул продрогнувшую дверцу,
и захватило дух от красоты.
Над яростной зарею, красной, грубой,
с цигаркой, сжатой яростно во рту,
вел самосвал парнишка стальнозубый,
вел яростно на яростном ветру.
И яростно, как пламенное сопло,
над чернью пашен, зеленью лугов
само себя выталкивало солнце
из яростно вцепившихся стогов.
И облетали яростно деревья,
и, яростно скача, рычал ручей,
и синева, алея и ярея,
качалась очумело от грачей.
Хотелось так же яростно ворваться,
как в ярость, в жизнь, раскрывши ярость крыл...
Мир был прекрасен. Надо было драться
за то, чтоб он еще прекрасней был!
И снова я вбирал, припав к баранке,
в глаза неутолимые мои
Дворцы культуры.
Чайные.
Бараки.
Райкомы.
Церкви.
И посты ГАИ.
Заводы.
Избы.
Лозунги.
Березки.
Треск реактивный в небе.
Тряск возков.
Глушилки.
Статуэтки-переростки
доярок, пионеров, горняков.
Глаза старух, глядящие иконно.
Задастость баб.
Детишек ералаш.
Протезы.
Нефтевышки.
Терриконы,
как груди возлежащих великанш.
Мужчины трактора вели. Пилили.
Шли к проходной, спеша потом к станку.
Проваливались в шахты. Пиво пили,
располагая соль по ободку.
А женщины кухарили. Стирали.
Латали, успевая все в момент.
Малярили. В очередях стояли.
Долбили землю. Волокли цемент.
Смеркалось вновь.
«Москвич» был весь росистый.
и ночь была звездами всклень полна,
а Галя доставала наш транзистор,
антенну выставляя из окна.
Антенна упиралась в мирозданье.
Шипел транзистор в Галиных руках.
Оттуда,
не стыдясь перед звездами,
шла бодро ложь на стольких языках!
О, шар земной, не лги и не играй!
Ты сам страдаешь – больше лжи не надо!
Я с радостью отдам загробный рай,
чтоб на земле поменьше было ада!
Машина по ухабам бултыхалась.
(Дорожники, ну что ж вы, стервецы!)
Могло казаться, что вокруг был хаос,
но были в нем «начала» и «концы».
Была Россия -
первая любовь
грядущего...
И в ней, вовек нетленно,
запенивался Пушкин где-то вновь,
загустевал Толстой, рождался Ленин.
И, глядя в ночь звездастую, вперед,
я думал, что в спасительные звенья
связуются великие прозренья
и, может, лишь звена недостает...
Ну что же, мы живые.
Наш черед.
МОНОЛОГ ЕГИПЕТСКОЙ ПИРАМИДЫ
Я -
египетская пирамида.
Я легендами перевита.
И писаки
меня
разглядывают,
и музеи
меня
раскрадывают,
и ученые возятся с лупами,
пыль пинцетами робко сколупывая,
и туристы,
потея,
теснятся,
чтоб на фоне бессмертия сняться.
Отчего же пословицу древнюю
повторяют феллахи и птицы,
что боятся все люди
времени,
а оно -
пирамид боится!
Люди, страх вековой укротите!
Стану доброй,
только молю:
украдите,
украдите,
украдите память мою!
Я вбираю в молчанье суровом
всю взрывную силу веков.
Кораблем космическим
с ревом
отрываюсь
я
от песков.
Я плыву марсианским таинством
над землей,
над людьми-букашками,
лишь какой-то туристик болтается,
за меня зацепившись подтяжками.
Вижу я сквозь нейлонно-неоновое:
государства лишь внешне новы.
Все до ужаса в мире не новое -
тот же древний Египет -
увы!
Та же подлость в ее оголтении.
Те же тюрьмы -
только модерные.
То же самое угнетение,
только более лицемерное.
Те же воры,
жадюги,
сплетники,
торгаши...
Переделать их!
Дудки!
Пирамиды недаром скептики.
Пирамиды -
они не дуры.
Облака я углами раздвину
и прорежусь,
как призрак, из них.
Ну-ка, сфинкс под названием Россия,
покажи свой таинственный лик!
Вновь знакомое вижу воочию -
лишь сугробы вместо песков.
Есть крестьяне,
и есть рабочие,
и писцы -
очень много писцов.
Есть чиновники,
есть и армия.
Есть, наверное,
свой фараон.
Вижу знамя какое-то...
Алое!
А, -
я столько знавала знамен!
Вижу,
здания новые грудятся,
вижу,
горы встают на дыбы.
Вижу,
трудятся...
Невидаль – трудятся!
Раньше тоже трудились рабы...
Слышу я -
шумит первобытно
их
тайгой называемый лес.
Вижу что-то...
Никак, пирамида!
«Эй, ты кто?»
«Я – Братская ГЭС».
«А, слыхала:
ты первая в мире
и по мощности,
и т.п.
Ты послушай меня,
пирамиду.
Кое-что расскажу я тебе.
Я, египетская пирамида,
как сестре, тебе душу открою.
Я дождями песка перемыта,
но еще не отмыта от крови.
Я бессмертна,
но в мыслях безверье,
и внутри все кричит и рыдает.
Проклинаю любое бессмертье,
если смерти -
его фундамент!
Помню я,
как рабы со стонами
волокли под плетями и палками,
поднатужась,
глыбу стотонную
по песку
на полозьях пальмовых.
Встала глыба...
Но в поисках выхода
им велели без всякой запинки
для полозьев ложбинки выкопать
и ложиться в эти ложбинки.
И ложились рабы в покорности
под полозья:
так бог захотел...
Сразу двинулась глыба по скользкости
их раздавливаемых тел.
Жрец являлся...
С ухмылкой пакостной
озирая рабов труды,
волосок, умащеньями пахнущий,
он выдергивал из бороды.
Самолично он плетью сек
и визжал:
«Переделывать, гниды!» -
если вдруг проходил волосок
между глыбами пирамиды.
И -
наискосок
в лоб или висок:
«Отдохнуть часок?
Хлеба хоть кусок?
Жрите песок!
Пейте сучий сок!
Чтоб – ни волосок!
Чтоб – ни волосок!»
А надсмотрщики жрали,
толстели
и плетьми свою песню свистели.
ПЕСНЯ НАДСМОТРЩИКОВ
Мы надсмотрщики,
мы -
твои ножки,
трон.
При виде нас
морщится
брезгливо
фараон.
А что он без нас?
Без наших глаз?
Без наших глоток?
Без наших плеток?
Плетка -
лекарство,
хотя она не мед.
Основа государства -
надсмотр,
надсмотр.
Народ без назидания
работать бы не смог.
Основа созидания -
надсмотр,
надсмотр.
И воины, раскиснув,
бежали бы, как сброд.
Основа героизма -
надсмотр,
надсмотр.
Опасны,
кто задумчивы.
Всех мыслящих -
к закланью.
Надсмотр за душами
важней,
чем над телами.
Вы что-то загалдели?
Вы снова за нытье?
Свободы захотели?
А разве нет ее?
(И звучат не слишком бодро
голоса:
«Есть!
Есть!» -
то ли есть у них свобода,
то ли хочется им есть!)
Мы -
надсмотрщики.
Мы гуманно грубые.
Мы вас бьем не до смерти,
для вашей пользы, глупые.
Плетками
по черным
спинам
рубя,
внушаем:
«Почетна
работа
раба».
Что о свободе грезить?
Имеете вы, дурни,
свободу -
сколько влезет
молчать,
о чем вы думаете.
Мы – надсмотрщики.
С нас тоже
пот ручьем.
Рабы,
вы нас не можете
упрекнуть
ни в чем.
Мы смотрим настороженно.
Мы псы -
лишь без намордников.
Но ведь и мы,
надсмотрщики, -
рабы других надсмотрщиков.
А над рабами стонущими, -
раб Амона он -
надсмотрщик всех надсмотрщиков,
наш бедный фараон.
Но за рабство рабы не признательны.
Несознательны рабы,
несознательны.
Им не жалко надсмотрщиков,
рабам,
им не жалко фараона,
рабам, -
на себя не хватает жалости.
И проходит стон по рядам,
стон усталости.
ПЕСНЯ РАБОВ
Мы рабы... Мы рабы... Мы рабы...
Как земля, наши руки грубы.
Наши хижины – наши гробы.
Наши спины тверды, как горбы.
Мы животные. Мы для косьбы,
молотьбы, а еще городьбы
пирамид, – возвеличить дабы
фараонов надменные лбы.
Вы смеетесь во время гульбы
среди женщин, вина, похвальбы,
ну а раб – он таскает столбы
и камней пирамидных кубы.
Неужели нет сил для борьбы,
чтоб когда-нибудь встать на дыбы?
Неужели в глазах голытьбы -
предначертанность вечной судьбы
повторять: «Мы рабы... Мы рабы...»?
П и р а м и д а п р о д о л ж а е т:
А потом рабы восставали,
фараонам за все воздавали,
их швыряли под ноги толп...
А какой из этого толк?
Я,
египетская пирамида,
говорю тебе,
Братская ГЭС:
столько в бунтах рабов перебито,
но не вижу я что-то чудес.
Говорят,
уничтожено рабство...
Не согласна:
еще мощней
рабство
всех предрассудков классовых,
рабство денег,
рабство вещей.
Да,
цепей старомодных нет,
но другие на людях цепи -
цепи лживой политики,
церкви
и бумажные цепи газет.
Вот живет человечек маленький.
Скажем, клерк.
Собирает он марки.
Он имеет свой домик в рассрочку.
Он имеет жену и дочку.
Он в постели начальство поносит,
ну а утром доклады подносит
изгибаясь, кивает:
«Йес...»
Он свободен,
Братская ГЭС!
Ты жестоко его не суди.
Бедный малый,
он раб семьи.
Ну а вот
в президентском кресле
человечек другой,
и если,
предположим, он даже не сволочь,
что он сделать хорошего сможет?
Ведь, как трон фараона,
без новшеств
кресло -
в рабстве у собственных ножек.
Ну а ножки -
те, кто поддерживают
и когда им надо,
придерживают.
Президенту надоедает,
что над ним
чье-то «надо!» витает,
но бороться поздно:
в их лести
кулаки увязают,
как в тесте.
Президент сопит обессиленно:
«Ну их к черту!
Все опостылело...»
Гаснут в нем благородные страсти...
Кто он?
Раб своей собственной власти.
Ты подумай,
Братская ГЭС,
в скольких людях -
забитость,
запуганность.
Люди,
где ваш хваленый прогресс?
Люди,
люди,
как вы запутались!
Наблюдаю гранями строгими
и потрескавшимися сфинксами
за великими вашими стройками,
за великими вашими свинствами.
Вижу:
дух человеческий слаб.
В человеке
нельзя
не извериться.
Человек -
по природе раб.
Человек
никогда не изменится.
Нет,
отказываюсь наотрез
ждать чего-то...
Прямо,
открыто
говорю это,
Братская ГЭС,
я, египетская пирамида.
МОНОЛОГ БРАТСКОЙ ГЭС
Пирамида,
я дочь России,
непонятной тебе земли.
Ее с детства плетьми крестили,
на клочки разрывали,
жгли.
Ее душу топтали, топтали,
нанося за ударом удар,
печенеги,
варяги,
татары
и свои -
пострашнее татар.
И лоснились у воронов перья,
над костьми вырастало былье,
и сложилось на свете поверье
о великом терпенье ее.
Прославлено терпение России.
Оно до героизма доросло.
Ее, как глину, на крови месили,
ну, а она терпела, да и все.
И бурлаку, с плечом, протертым лямкой,
и пахарю, упавшему в степи,
она шептала с материнской лаской
извечное: «Терпи, сынок, терпи...»
Могу понять, как столько лет Россия
терпела голода и холода,
и войн жестоких муки нелюдские,
и тяжесть непосильного труда,
и дармоедов, лживых до предела,
и разное обманное вранье,
но не могу осмыслить: как терпела
она само терпение свое?!
Есть немощное, жалкое терпенье.
В нем полная забитость естества,
в нем рабская покорность, отупенье...
России суть совсем не такова.
Ее терпенье – мужество пророка,
который умудренно терпелив.
Она терпела все...
Но лишь до срока,
как мина.
А потом
случался
взрыв!
П р е р в а л а п и р а м и д а:
Я против
всяких взрывов...
Навиделась я!
Колют,
рубят,
а много ли проку?
Только кровь проливается зря!
Б р а т с к а я Г ЭС п р о д о л ж а е т:
Зря?
Зову я на память прошлое,
про себя повторяя вновь
строки вещие:
"...Дело прочно,
когда под ним струится кровь».
И над кранами,
эстакадами,
пирамида,
к тебе сквозь мошку
поднимаю ковшом экскаватора
в кабаках и боярах Москву.
Погляди-ка:
в ковше над зубьями
золотые
торчат купола.
Что случилось там?
Что насупленно
раззвонились колокола?
За тридцать мне. Мне страшно по ночам.
Я простыню коленями горбачу,
лицо топлю в подушке, стыдно плачу,
что жизнь растратил я по мелочам,
а утром снова так же ее трачу.
Когда б вы знали, критики мои,
чья доброта безвинно под вопросом,
как ласковы разносные статьи
в сравненье с моим собственным разносом,
вам стало б легче, если в поздний час
несправедливо мучит совесть вас.
Перебирая все мои стихи,
я вижу: безрассудно разбазарясь,
понамарал я столько чепухи...
а не сожжешь: по свету разбежалась.
Соперники мои,
отбросим лесть
и ругани обманчивую честь.
Размыслим-ка над судьбами своими.
У нас у всех одна и та же есть
болезнь души.
Поверхностность ей имя.
Поверхностность, ты хуже слепоты.
Ты можешь видеть, но не хочешь видеть.
Быть может, от безграмотности ты?
А может, от боязни корни выдрать
деревьев, под которыми росла,
не посадив на смену ни кола?!
И мы не потому ли так спешим,
снимая внешний слой лишь на полметра,
что, мужество забыв, себя страшим
самой задачей - вникнуть в суть предмета?
Спешим... Давая лишь полуответ,
поверхностность несем, как сокровенья,
не из расчета хладного, - нет, нет! -
а из инстинкта самосохраненья.
Затем приходит угасанье сил
и неспособность на полет, на битвы,
и перьями домашних наших крыл
подушки подлецов уже набиты...
Метался я... Швыряло взад-вперед
меня от чьих-то всхлипов или стонов
то в надувную бесполезность од,
то в ложную полезность фельетонов.
Кого-то оттирал всю жизнь плечом,
а это был я сам. Я в страсти пылкой,
наивно топоча, сражался шпилькой,
где следовало действовать мечом.
Преступно инфантилен был мой пыл.
Безжалостности полной не хватало,
а значит, полной жалости...
Я был
как среднее из воска и металла
и этим свою молодость губил.
Пусть каждый входит в жизнь под сим обетом:
помочь тому, что долженствует цвесть,
и отомстить, не позабыв об этом,
всему тому, что заслужило месть!
Боязнью мести мы не отомстим.
Сама возможность мести убывает,
и самосохранения инстинкт
не сохраняет нас, а убивает.
Поверхностность - убийца, а не друг,
здоровьем притворившийся недуг,
опутавший сетями обольщений...
На частности разменивая дух,
мы в сторону бежим от обобщений.
Теряет силы шар земной в пустом,
оставив обобщенья на потом.
А может быть, его незащищенность
и есть людских судеб необобщенность
в прозренье века, четком и простом?!
...Я ехал по России вместе с Галей,
куда-то к морю в "Москвиче" спеша
от всех печалей...
Осень русских далей
пообок золотела все усталей,
листами под покрышками шурша,
и отдыхала за рулем душа.
Дыша степным, березовым, соснистым,
в меня швырнув немыслимый массив,
на скорости за семьдесят, со свистом,
Россия обтекала наш "Москвич".
Россия что-то высказать хотела
и что-то понимала, как никто.
Она "Москвич" вжимала в свое тело
и втягивала в самое нутро.
И, видимо, с какою-то задумкой,
скрывающей до срока свою суть,
мне подсказала сразу же за Тулой
на Ясную Поляну повернуть.
И вот в усадьбу, дышащую ветхо,
вошли мы, дети атомного века,
спешащие, в нейлоновых плащах,
и замерли, внезапно оплошав.
И, ходоков за правдою потомки,
мы ощутили вдруг в минуту ту
все те же, те же на плечах котомки
и тех же ног разбитых босоту.
Немому повинуясь повеленью,
закатом сквозь листву просквожены,
вступили мы в тенистую аллею
по имени "Аллея Тишины".
И эта золотая просквоженность,
не удаляясь от людских недоль,
снимала суету, как прокаженность,
и, не снимая, возвышала боль.
Боль, возвышаясь, делалась прекрасной,
в себе соединив покой и страсть,
и дух казался силою всевластной,
но возникал в душе вопрос бесстрастный -
и так ли уж всевластна эта власть?
Добились ли каких-то изменений
все те, кому от нас такой почет,
чей дух обширней наших измерений?
Добились?
Или все как встарь течет?
А между тем - усадьбы той хозяин,
невидимый, держал нас на виду
и чудился вокруг: то проскользая
седобородым облаком в пруду,
то слышался своей походкой крупной
в туманности дымящихся лощин,
то часть лица являл в коре огрублой,
изрезанной ущельями морщин.
Космато его брови прорастали
в дремучести бурьянной на лугу,
и корни на тропинках проступали,
как жилы на его могучем лбу.
И, не ветшая, - царственно древнея,
верша вершинным шумом колдовство,
вокруг вздымались мощные деревья,
как мысли неохватные его.
Они стремились в облака и недра,
шумели все грознее и грозней,
и корни их вершин росли из неба,
вглубь уходя вершинами корней...
Да, ввысь и вглубь - и лишь одновременно!
Да, гениальность - выси с глубью связь!..
Но сколькие живут все так же бренно,
в тени великих мыслей суетясь...
Так что ж, напрасно гениям горелось
во имя изменения людей?
И, может быть, идей неустарелость -
свидетельство бессилия идей?
Который год уже прошел, который,
а наша чистота, как во хмелю,
бросается Наташею Ростовой
к лжеопыту - повесе и вралю!
И вновь и вновь - Толстому в укоренье -
мы забываем, прячась от страстей,
что Вронский - он черствее, чем Каренин,
в мягкосердечной трусости своей.
А сам Толстой?
Собой же поколеблен,
он своему бессилью не пример, -
беспомощно метавшийся, как Левин,
в благонаивном тщанье перемен?..
Труд гениев порою их самих
пугает результатом подсомненным,
но обобщенья каждого из них,
как в битве, - сантиметр за сантиметром.
Три величайших имени России
пусть нас от опасений оградят.
Они Россию заново родили
и заново не раз ее родят.
Когда и безъязыко и незряче
Поэма “Братская ГЭС” была написана Е. Евтушенко в середине шестидесятых годов, по свежим впечатлениям от грандиозной стройки. В ней звучит гордость за людей и страну, осуществляющих такие небывалые проекты.
Поэма “Братская ГЭС” написаная в середине шестидесятых, звучит актуально и в наши дни, такова сила классики, а то что Евгений Александрович Евтушенко - классик, уже не вызывает сомнения.
Главу "Казнь Степана Разина" из поэмы “Братская ГЭС” читает автор
Евтушенко, Евгений Александрович
Поэт, киносценарист, кинорежиссер; сопредседатель писательской ассоциации "Апрель", секретарь правления Содружества писательских союзов; родился 18 июля 1933 г. на ст. Зима в Иркутской области; окончил Литературный институт им. А. М. Горького в 1954 г.; начал публиковаться в 1949 г.; был членом редколлегии журнала "Юность" (1962-1969); член Союза писателей СССР, автор поэм "Братская ГЭС", "Казанский университет", "Под кожей статуи свободы", "Фуку", "Мама и нейтронная бомба", романа "Ягодные места" и многих других прозаических и поэтических произведений.
Евтушенко писал, что в молодости он был "продуктом сталинской эпохи, мешаным-перемешанным существом, в котором уживались и революционная романтика, и звериный инстинкт выживания, и преданность поэзии, и легкомысленное ее предательство на каждом шагу". С конца 50-х его популярности способствовали многочисленные выступления, иногда по 300-400 раз в год. В 1963 г. Евтушенко опубликовал в западногерманском журнале "Штерн" и во французском еженедельнике "Экспресс" свою "Преждевременную автобиографию". В ней он рассказал о существовавшем антисемитизме, о "наследниках" Сталина, писал о литературной бюрократии, о необходимости открыть границы, о праве художника на разнообразие стилей вне жестких рамок соцреализма. Публикация за границей такого произведения и отдельные его положения были подвергнуты резкой критике на IV пленуме Правления Союза писателей СССР в марте 1963 г. Евтушенко выступил с покаянной речью, в которой говорил, что в автобиографии ему хотелось показать, что идеология коммунизма была, есть и будет основой всей его жизни. В дальнейшем Евтушенко часто шел на компромиссы. Многие читатели стали скептически относиться к его творчеству, получившему, во многом, публицистическую, конъюнктурную направленность. С началом перестройки, которую Евтушенко горячо поддержал, активизировалась его общественная деятельность; он много выступал в печати и на различных собраниях; внутри Союза писателей усилилось противостояние между ним и группой писателей "почвенников" во главе со С. Куняевым и Ю. Бондаревым. Он считает, что экономическое процветание общества должно гармонично сочетаться с духовным.
Евгений Евтушенко
МОЛИТВА ПЕРЕД ПОЭМОЙ
МОНОЛОГ ЕГИПЕТСКОЙ ПИРАМИДЫ
ПЕСНЯ НАДСМОТРЩИКОВ
ПЕСНЯ РАБОВ
МОНОЛОГ БРАТСКОЙ ГЭС
КАЗНЬ СТЕНЬКИ РАЗИНА
ДЕКАБРИСТЫ
ПЕТРАШЕВЦЫ
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ЯРМАРКА В СИМБИРСКЕ
ИДУТ ХОДОКИ К ЛЕНИНУ
АЗБУКА РЕВОЛЮЦИИ
БЕТОН СОЦИАЛИЗМА
КОММУНАРЫ НЕ БУДУТ РАБАМИ
ПРИЗРАКИ В ТАЙГЕ
ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН
БОЛЬШЕВИК
ДИСПЕТЧЕР СВЕТА
НЕ УМИРАЙ, ИВАН СТЕПАНЫЧ
ТЕНИ НАШИХ ЛЮБИМЫХ
МАЯКОВСКИЙ
БАЛ ВЫПУСКНИКОВ
В МИНУТУ СЛАБОСТИ
НОЧЬ ПОЭЗИИ
Евгений Евтушенко
БРАТСКАЯ ГЭС
Поэма
МОЛИТВА ПЕРЕД ПОЭМОЙ
Поэт в России - больше чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,
кому уюта нет, покоя нет.
Поэт в ней - образ века своего
и будущего призрачный прообраз.
Поэт подводит, не впадая в робость,
итог всему, что было до него.
Сумею ли? Культуры не хватает...
Нахватанность пророчеств не сулит...
Но дух России надо мной витает
и дерзновенно пробовать велит.
И, на колени тихо становясь,
готовый и для смерти и победы,
прошу смиренно помощи у вас,
великие российские поэты...
Дай, Пушкин, мне свою певучесть,
свою раскованную речь,
свою пленительную участь -
как бы шаля, глаголом жечь.
Дай, Лермонтов, свой желчный взгляд,
своей презрительности яд
и келью замкнутой души,
где дышит, скрытая в тиши,
недоброты твоей сестра -
лампада тайного добра.
Дай, Некрасов, уняв мою резвость,
боль иссеченной музы твоей -
у парадных подъездов, у рельсов
и в просторах лесов и полей.
Дай твоей неизящности силу.
Дай мне подвиг мучительный твой,
чтоб идти, волоча всю Россию,
как бурлаки идут бечевой.
О, дай мне, Блок, туманность вещую
и два кренящихся крыла,
чтобы, тая загадку вечную,
сквозь тело музыка текла.
Дай, Пастернак, смещенье дней,
смущенье веток,
сращенье запахов, теней
с мученьем века,
чтоб слово, садом бормоча,
цвело и зрело,
чтобы вовек твоя свеча
во мне горела.
Есенин, дай на счастье нежность мне
к березкам и лугам, к зверью и людям
и ко всему другому на земле,
что мы с тобой так беззащитно любим
Дай, Маяковский, мне
глыбастость,
непримиримость грозную к подонкам,
чтоб смог и я,
сквозь время прорубаясь,
сказать о нем
товарищам потомкам.
ПРОЛОГ
За тридцать мне. Мне страшно по ночам.
Я простыню коленями горбачу,
лицо топлю в подушке, стыдно плачу,
что жизнь растратил я по мелочам,
а утром снова так же ее трачу.
Когда б вы знали, критики мои,
чья доброта безвинно под вопросом,
как ласковы разносные статьи
в сравненье с моим собственным разносом,
вам стало б легче, если в поздний час
несправедливо мучит совесть вас.
Перебирая все мои стихи,
я вижу: безрассудно разбазарясь,
понамарал я столько чепухи...
а не сожжешь: по свету разбежалась.
Соперники мои,
отбросим лесть
и ругани обманчивую честь.
Размыслим-ка над судьбами своими.
У нас у всех одна и та же есть
болезнь души.
Поверхностность ей имя.
Поверхностность, ты хуже слепоты.
Ты можешь видеть, но не хочешь видеть.
Быть может, от безграмотности ты?
А может, от боязни корни выдрать
деревьев, под которыми росла,
не посадив на смену ни кола?!
И мы не потому ли так спешим,
снимая внешний слой лишь на полметра,
что, мужество забыв, себя страшим
самой задачей - вникнуть в суть предмета?
Спешим... Давая лишь полуответ,
поверхностность несем, как сокровенья,
не из расчета хладного, - нет, нет! -
а из инстинкта самосохраненья.
Затем приходит угасанье сил
и неспособность на полет, на битвы,
и перьями домашних наших крыл
подушки подлецов уже набиты...
Метался я... Швыряло взад-вперед
меня от чьих-то всхлипов или стонов
то в надувную бесполезность од,
то в ложную полезность фельетонов.
Кого-то оттирал всю жизнь плечом,
а это был я сам. Я в страсти пылкой,
наивно топоча, сражался шпилькой,
где следовало действовать мечом.
Преступно инфантилен был мой пыл.
Безжалостности полной не хватало,
а значит, полной жалости...
как среднее из воска и металла
и этим свою молодость губил.
Пусть каждый входит в жизнь под сим обетом:
помочь тому, что долженствует цвесть,
и отомстить, не позабыв об этом,
всему тому, что заслужило месть!
Боязнью мести мы не отомстим.
Сама возможность мести убывает,
и самосохранения инстинкт
не сохраняет нас, а убивает.
Поверхностность - убийца, а не друг,
здоровьем притворившийся недуг,
опутавший сетями обольщений...
На частности разменивая дух,
мы в сторону бежим от обобщений.
Теряет силы шар земной в пустом,
оставив обобщенья на потом.
А может быть, его незащищенность
и есть людских судеб необобщенность
в прозренье века, четком и простом?!
Я ехал по России вместе с Галей,
куда-то к морю в «Москвиче» спеша
от всех печалей...
Осень русских далей
пообок золотела все усталей,
листами под покрышками шурша,
и отдыхала за рулем душа.
Дыша степным, березовым, соснистым,
в меня швырнув немыслимый массив,
на скорости за семьдесят, со свистом,
Россия обтекала наш «Москвич».
Россия что-то высказать хотела
и что-то понимала, как никто.
Она «Москвич» вжимала в свое тело
и втягивала в самое нутро.
И, видимо, с какою-то задумкой,
скрывающей до срока свою суть,
мне подсказала сразу же за Тулой
на Ясную Поляну повернуть.
И вот в усадьбу, дышащую ветхо,
вошли мы, дети атомного века,
спешащие, в нейлоновых п...
БРАТСКАЯ ГЭС
Поэма
МОЛИТВА ПЕРЕД ПОЭМОЙ
Поэт в России - больше чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,
кому уюта нет, покоя нет.
Поэт в ней - образ века своего
и будущего призрачный прообраз.
Поэт подводит, не впадая в робость,
итог всему, что было до него.
Сумею ли? Культуры не хватает...
Нахватанность пророчеств не сулит...
Но дух России надо мной витает
и дерзновенно пробовать велит.
И, на колени тихо становясь,
готовый и для смерти и победы,
прошу смиренно помощи у вас,
великие российские поэты...
Дай, Пушкин, мне свою певучесть,
свою раскованную речь,
свою пленительную участь -
как бы шаля, глаголом жечь.
Дай, Лермонтов, свой желчный взгляд,
своей презрительности яд
и келью замкнутой души,
где дышит, скрытая в тиши,
недоброты твоей сестра -
лампада тайного добра.
Дай, Некрасов, уняв мою резвость,
боль иссеченной музы твоей -
у парадных подъездов, у рельсов
и в просторах лесов и полей.
Дай твоей неизящности силу.
Дай мне подвиг мучительный твой,
чтоб идти, волоча всю Россию,
как бурлаки идут бечевой.
О, дай мне, Блок, туманность вещую
и два кренящихся крыла,
чтобы, тая загадку вечную,
сквозь тело музыка текла.
Дай, Пастернак, смещенье дней,
смущенье веток,
сращенье запахов, теней
с мученьем века,
чтоб слово, садом бормоча,
цвело и зрело,
чтобы вовек твоя свеча
во мне горела.
Есенин, дай на счастье нежность мне
к березкам и лугам, к зверью и людям
и ко всему другому на земле,
что мы с тобой так беззащитно любим
Дай, Маяковский, мне
глыбастость,
непримиримость грозную к подонкам,
чтоб смог и я,
сквозь время прорубаясь,
сказать о нем
товарищам потомкам.
ПРОЛОГ
За тридцать мне. Мне страшно по ночам.
Я простыню коленями горбачу,
лицо топлю в подушке, стыдно плачу,
что жизнь растратил я по мелочам,
а утром снова так же ее трачу.
Когда б вы знали, критики мои,
чья доброта безвинно под вопросом,
как ласковы разносные статьи
в сравненье с моим собственным разносом,
вам стало б легче, если в поздний час
несправедливо мучит совесть вас.
Перебирая все мои стихи,
я вижу: безрассудно разбазарясь,
понамарал я столько чепухи...
а не сожжешь: по свету разбежалась.
Соперники мои,
отбросим лесть
и ругани обманчивую честь.
Размыслим-ка над судьбами своими.
У нас у всех одна и та же есть
болезнь души.
Поверхностность ей имя.
Поверхностность, ты хуже слепоты.
Ты можешь видеть, но не хочешь видеть.
Быть может, от безграмотности ты?
А может, от боязни корни выдрать
деревьев, под которыми росла,
не посадив на смену ни кола?!
И мы не потому ли так спешим,
снимая внешний слой лишь на полметра,
что, мужество забыв, себя страшим
самой задачей - вникнуть в суть предмета?
Спешим... Давая лишь полуответ,
поверхностность несем, как сокровенья,
не из расчета хладного, - нет, нет! -
а из инстинкта самосохраненья.
Затем приходит угасанье сил
и неспособность на полет, на битвы,
и перьями домашних наших крыл
подушки подлецов уже набиты...
Метался я... Швыряло взад-вперед
меня от чьих-то всхлипов или стонов
то в надувную бесполезность од,
то в ложную полезность фельетонов.
Кого-то оттирал всю жизнь плечом,
а это был я сам. Я в страсти пылкой,
наивно топоча, сражался шпилькой,
где следовало действовать мечом.
Преступно инфантилен был мой пыл.
Безжалостности полной не хватало,
а значит, полной жалости...
как среднее из воска и металла
и этим свою молодость губил.
Пусть каждый входит в жизнь под сим обетом:
помочь тому, что долженствует цвесть,
и отомстить, не позабыв об этом,
всему тому, что заслужило месть!
Боязнью мести мы не отомстим.
Сама возможность мести убывает,
и самосохранения инстинкт
не сохраняет нас, а убивает.
Поверхностность - убийца, а не друг,
здоровьем притворившийся недуг,
опутавший сетями обольщений...
На частности разменивая дух,
мы в сторону бежим от обобщений.
Теряет силы шар земной в пустом,
оставив обобщенья на потом.
А может быть, его незащищенность
и есть людских судеб необобщенность
в прозренье века, четком и простом?!
Я ехал по России вместе с Галей,
куда-то к морю в «Москвиче» спеша
от всех печалей...
Осень русских далей
пообок золотела все усталей,
листами под покрышками шурша,
и отдыхала за рулем душа.
Дыша степным, березовым, соснистым,
в меня швырнув немыслимый массив,
на скорости за семьдесят, со свистом,
Россия обтекала наш «Москвич».
Россия что-то высказать хотела
и что-то понимала, как никто.
Она «Москвич» вжимала в свое тело
и втягивала в самое нутро.
И, видимо, с какою-то задумкой,
скрывающей до срока свою суть,
мне подсказала сразу же за Тулой
на Ясную Поляну повернуть.
И вот в усадьбу, дышащую ветхо,
вошли мы, дети атомного века,
спешащие, в нейлоновых плащах,
и замерли, внезапно оплошав.
И, ходоков за правдою потомки,
мы ощутили вдруг в минуту ту
все те же, те же на плечах котомки
и тех же ног разбитых босоту.
Немому повинуясь повеленью,
закатом сквозь листву просквожены,
вступили мы в тенистую аллею
по имени «Аллея Тишины».
И эта золотая просквоженность,
не удаляясь от людских недоль,
снимала суету, как прокаженность,
и, не снимая, возвышала боль.
Боль, возвышаясь, делалась прекрасной,
в себе соединив покой и страсть,
и дух казался силою всевластной,
но возникал в душе вопрос бесстрастный -
и так ли уж всевластна эта власть?
Добились ли каких-то изменений
все те, кому от нас такой почет,
чей дух обширней наших измерений?
Добились?
Или все как встарь течет?
А между тем - усадьбы той хозяин,
невидимый, держал нас на виду
и чудился вокруг: то проскользая
седобородым облаком в пруду,
то слышался своей походкой крупной
в туманности дымящихся лощин,
то часть лица являл в коре огрублой,
изрезанной ущельями морщин.
Космато его брови прорастали
в дремучести бурьянной на лугу,
и корни на тропинках проступали,
как жилы на его могучем лбу.
И, не ветшая, - царственно древнея,
верша вершинным шумом колдовство,
вокруг вздымались мощные деревья,
как мысли неохватные его.
Они стремились в облака и недра,
шумели все грознее и грозней,
и корни их вершин росли из неба,
вглубь уходя вершинами корней...
Да, ввысь и вглубь - и лишь одновременно!
Да, гениальность - выси с глубью связь!..
Но сколькие живут все так же бренно,
в тени великих мыслей суетясь...
Так что ж, напрасно гениям горелось
во имя изменения людей?