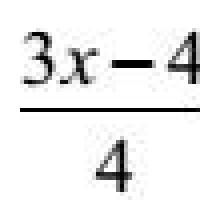Как работала царская охранка. Тайная полиция российской империи. Участвовала ли гвардия в войнах
А как была по-ставлена служба по охране «первых лиц» до революции, рассказывает историк Дмитрий Клочков
Войти за кавалергардов
Сергей Осипов, «АиФ »: Кто охранял жизнь Рюриковичей и первых Романовых?
Дмитирй Клочков: В первые столетия существования Древней Руси князей охраняли их дружины. В период царствования Ивана Грозного при подготовке второго Казанского похода формируется полк «Царя и великого князя», который уже в начале 1550 г. сопровождал молодого государя. В 1550-х гг. для охраны царской особы был сформирован конный Государев полк, составленный из тысячи бояр, дворян и городовых дворян и детей боярских (было такое служилое сословие в Средние века) Московского, Дмитровского и Рузского уездов. Одним из дворовых воевод в полку был знаменитый опричник Малюта Скуратов , в дальнейшем на этой должности находился Борис Фёдорович Годунов , а также Фёдор Никитич Романов - будущий патриарх Филарет и отец первого царя из династии Романовых Михаила Фёдоровича . Позднее охранные функции при царе стала исполнять опричнина.

Рында в XVI в. Фото: Public Domain
Непосредственно в царских покоях, на посольских приёмах, у трона царя или позади него начиная с XVI в. несли охрану рынды - личная охрана государя, юноши из знатных фамилий. Вооружение рынд обычно состояло из особых, «посольских» топоров с полукруглым лезвием. С XVII в. в мирное время охрану территории Кремля несли стрелецкие полки.
- Какие изменения в деле охраны случились при Петре I?
К концу XVII в. стрелецкая охрана стала весьма ненадёжной. Свидетельством тому - череда стрелецких бунтов. Пётр им не доверял и в 1691 г. из «потешных» команд создал первые полки Российской императорской гвардии - Преображенский и Семёновский. Им была доверена охрана царя, поручались наиболее ответственные, сложные и деликатные миссии. В июне 1700 г., накануне похода на Нарву, Преображенскому и Семёновскому полкам был присвоен статус полков лейб-гвардии. С этого момента они официально несли охрану императора во время походов и его проживания в Петербурге, Москве и других городах.
В середине XVIII в. охрану у внутренних покоев императрицы Екатерины II несли чины Кавалергардского корпуса. Поэтому возникло выражение «войти за кавалергардов», то есть быть приглашённым в личные императорские апартаменты.
«Неверный часовой»
- Участвовали ли охранники в дворцовых переворотах?
В умелых руках гвардия становилась настоящим «делателем» российских императоров и императриц. Так, сразу же после смерти Петра Великого под окнами Зимнего дворца были выстроены поднятые по тревоге гвардейские части. Именно благодаря их присутствию следующим российским монархом стала жена Петра Екатерина I . Майор лейб-гвардии Преображенского полка А. И. Ушаков прямо заявил: «Гвардия желает видеть на престоле Екатерину, и она готова убить каждого, не одобряющего это решение». Взошедший вскоре на престол Пётр II также получил поддержку гвардии и поэтому смог избавиться от «опеки» всесильного А. Меншикова, который потерял влияние на гвардейцев.
После кончины Анны Иоанновны поддержка преображенцами генерал-фельдмаршала графа Миниха и недовольство реформами регента герцога Бирона позволили легко свергнуть и арестовать последнего. Однако «воцарившейся» благодаря этой «рокировке» новой регентше принцессе Анне Леопольдовне удалось сохранить благоволение гвардейцев совсем ненадолго. Недовольные засильем «немцев» и необходимостью выступать на войну со шведами, несколько гренадер лейб-гвардии Преображенского полка побудили дочь Петра I Елизавету к решительным действиям, и 25 ноября 1741 г. Елизавета Петровна во главе гренадерской роты преображенцев выступила к Зимнему дворцу, всего за несколько часов став новой императрицей.
Многие лейб-кампанцы приняли участие в свержении Петра III и воцарении Екатерины II. Но новая императрица, наблюдая за «художествами» лейб-кампанцев, постепенно отправила их в почётную отставку.
- Участвовала ли гвардия в войнах?
Гвардейцы участвовали практически во всех важных военных кампаниях начиная со времён Петра I.
Во время Битвы народов под Лейпцигом 4 октября 1813 г. императора Александра I охраняла Черноморская казачья сотня, находившаяся в составе лейб-гвардии Казачьего полка. В кульминационный момент боя, когда французские кирасиры неудержимо неслись по направлению к деревне Госсе, за которой находился русский император со своей свитой и лейб-казаками, им было приказано атаковать во фланг неприятельских латников. Полковник Ефремов , командовавший лейб-казаками, крикнул перед атакой: «Братцы, умрёмте, а дальше не допустим!» Даже офицеры и вахмистр во-оружились тогда пиками, чтобы увеличить ударную силу отряда. Фактор внезапности сыграл свою роль: как утверждал один из лейб-казаков, «неожиданным нашим появлением на фланге неприятель настолько был озадачен, что как будто на минуту приостановился и заволновался, как вода в корыте. А мы, с страшным, диким гиком, уже неслись на него». Успех атаки казаков смог переломить ход сражения и фактически спас жизнь Александру I.

С кавказским акцентом
Среди всех блестящих гвардейских частей особенно выделялся своей экзотикой Собственный Его Императорского Величества (ЕИВ) Конвой, состоящий из выходцев с Кавказа. Императоры не боялись доверять свою жизнь «диким горцам»?
Костяком ЕИВ Конвоя стал созданный 1 мая 1828 г. из знатных жителей Северного Кавказа Лейб-гвардии Кавказско-Горский взвод. Причины образования взвода носили ярко выраженный политический характер. На Кавказе шла война. По замыслу русского правительства, служба в столице империи должна была привить горцам европейскую культуру и взгляды, «цивилизовать» их. Для этого предусматривалось раз в 4 года сменять состав нижних чинов взвода. По мысли Николая I , любившего рыцарские поступки, средством привлечения этих людей на свою сторону могло быть оказание им высочайшей чести и доверия - службы при особе императора. В то же время считалось, что присутствие ближайших родственников кавказских правителей на службе в Петербурге должно гарантировать русскому правительству спокойную обстановку на Кавказе и следование заключённым с ним соглашениям.
Горцы охраняли императора чисто символически, обычно сопровождая его в качестве конного эскорта на различных придворных церемониях.
Однако, как писал другой очевидец, в те годы «Государь свободно гулял где и когда хотел, и то, что теперь считается заботой и зачисляется за необходимую и полезную службу, явилось бы в те времена дерзким и непростительным шпионством». В 1882 г. подразделения горцев были расформированы, в 1891 г. то же самое сделали с входившей в состав Конвоя командой крымских татар. С этого времени в его составе остались только казачьи сотни.

Казаки конвоя. Фото: Public Domain
Воздушная гвардия
- Как была поставлена служба по охране «первых лиц»?
До времён Николая I дворцы и резиденции, где проживала императорская семья, охраняли подразделения различных гвардейских частей. Однако после восстания декабристов в 1825 г., в котором приняло участие немало гвардейцев, стало ясно, что необходимы специализированные части. Были сформированы Рота дворцовых гренадер (стационарная охрана в Зимнем дворце) и Собственный ЕИВ Конвой (мобильная охрана). При Александре III охрана ж/д путей была поручена Первому железнодорожному батальону. В Первую мировую возникла угроза воздушного нападения на резиденцию императора в Царском Селе. Для её отражения в 1915 г. создали Отдельную батарею для воздушной артиллерийской обороны императорской резиденции. Она была вооружена трёхдюймовыми пушками на стационарных установках, зенитными орудиями на автомобильной тяге и пулемётами. Похожая батарея охраняла от воздушных ударов царскую Ставку в Могилёве после того, как должность Верховного главнокомандующего возложил на себя Николай II. Последним «приобретением» Лейб-гвардии стал авиационный отряд для охраны императорской резиденции.

Портрет группы дворцовых гренадер. Фото: Public Domain
- Что стало с охранными частями после февраля 1917 г.?
Почти все эти части и подразделения были расформированы в течение нескольких дней после отречения императора Николая II в марте 1917 г., только подразделения по охране Ставки ещё несколько месяцев продолжали существовать. Конвой Его Величества был переформирован вначале в Конвой Верховного главнокомандующего, а затем разбит на два гвардейских дивизиона - Терский и Кубанский, которые выступили в столицы своих казачьих войск. Впоследствии они участвовали в Гражданской войне на стороне белых, эвакуировались из Крыма и после долгих мытарств обосновались в Сербии. Когда началась Вторая мировая война, гвардейский дивизион в полном составе вошёл в формируемый Русский охранный корпус, подчинявшийся германскому командованию. Он боролся с партизанами-коммунистами, причём весьма эффективно. В горах Югославии много десятилетий после окончания войны тамошние крестьяне словом «казак» пугали непослушных детей.

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ
Н. В. Калинин
ТАЙНАЯ АГЕНТУРА ОХРАННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ЦАРСКОЙ РОССИИ
Статья рассказывает о деятельности тайной агентуры охранных отделений в царской России. Исследование посвящено деятельности охранных отделений в России с момента их создания в начале XX в. до упразднения в 1913 г.
Российское государство конца XIX - начала XX вв. представляло из себя сложную многоуровневую систему институтов, составной частью которых были органы принуждения (так называемый «карательный аппарат»). Указанная группа органов в силу своей специальной компетенции играла важную роль в механизме отечественного государства, особенно в периоды кризисов. Особую роль в этой структуре играли охранные отделения, или так называемые «охранки».
Охранные отделения России имели достаточно широкие возможности по наблюдению и контролю как за общественно-политическими организациями, так и за иными политически неблагонадежными элементами. Достаточно важным является необходимость оценки деятельности такого механизма охранных отделений, как работа секретных агентов. Анализ деятельности тайной агентуры охранных отделений даст возможность оценить практический вклад накопленного опыта сыскной деятельности в развитии органов государственной безопасности последующих периодов истории. Кроме того, изучение методов деятельности охранных отделений позволит определить их место и значение в аппарате государственных органов царской России.
Охранные отделения создавались как органы исключительно оперативно-розыскные. Несмотря на то что непосредственные результаты их деятельности не всегда имели доказательственное значение для суда, получаемая ими информация должна была ощутимо двинуть вперед дознание и следствие, что, кстати, и случилось, так как практически все политические дела начинались и велись с помощью «охранок» .
КАЛИНИН Николай Викторович - аспирант кафедры государственно-правовых дисциплин ВятГГУ © Калинин Н. В., 2008
Каждое охранное отделение состояло из общей канцелярии, отдела внутреннего наблюдения и отдела наружного наблюдения. Штаты охранок были различными и зависели от местной оперативной обстановки. В сентябре 1903 г., например, в Томском охранном отделении числилось 9 человек, а в Санкт-Петербургском - 151 . Хотя можно сказать, что обычно штаты охранных отделений не были многочисленны.
Большую роль в наблюдении играла агентура охранных отделений. Само наблюдение распадалось на две части: с одной стороны, наружное наблюдение при помощи филеров, в просторечии называемых «шпиками» и «гороховыми пальто»; с другой- деятельность революционных организаций освещалась изнутри при помощи членов партии, пристроившихся одновременно и к охранке и за вознаграждение предающих своих товарищей . Такие секретные агенты, внедряющиеся в революционные организации и политически неблагонадежные общества, были наиболее важны.
Наружное наблюдение осуществлялось отделом наружного наблюдения охранного отделения. Он состоял из заведующего и агентов наружного наблюдения - филеров. Отделу подчинялись и низшие чины охранного отделения: участковые полицейские надзиратели и вокзальные полицейские надзиратели. Они наводили справки о лицах, интересовавших полицию, присутствовали при отходе и приходе поездов, в случае необходимости могли задержать того, кто их интересовал. Главное место в отделе принадлежало филерам - агентам наружного наблюдения .
Существовала специальная секретная инструкция «Об организации наружного (филерского) наблюдения». Филеров надлежало подбирать в соответствии с ней. Чтобы стать филером, кандидат должен был соответствовать ряду требований. Как правило, это должны были быть строевые запасные нижние чины, не старше 30 лет. Преимущество отдавалось лицам, окончившим военную службу в год поступления на филерскую службу, а также кавалеристам, разведчикам, бывшим в охотничьей команде, имеющим награды за разведку, отличную стрельбу и знаки военного ордена.
В инструкции указывалось, что филер должен был быть политически и нравственно благонаде-
жен, тверд в своих убеждениях, честный, трезвый, смелый, ловкий, развитой, сообразительный, выносливый, терпеливый, настойчивый, осторожный, правдивый, откровенный, но не болтун, дисциплинированный, выдержанный, уживчивый, серьезно и сознательно относящийся к делу и принятым на себя обязанностям, крепкого здоровья, в особенности с крепкими ногами, с хорошим зрением, слухом и памятью, такой внешностью, которая давала бы ему возможность не выделяться из толпы и устраняла бы запоминание его наблюдаемыми . Интересен еще и тот факт, что чрезмерная нежность к семье считалась качеством, несовместимым с филерской службой. Лица польской и еврейской национальностей в филеры не принимались.
Принятому в службу наружного наблюдения новичку поручалось сначала наблюдение за своим же служащим, и если с этой задачей он справлялся успешно, ему доверялось настоящее наблюдение, причем на первый раз он назначался в помощь старому, опытному филеру. Если филер впервые брал под наблюдение лицо, он давал ему кличку, и наблюдаемый, таким образом, имел два псевдонима: один - внутреннего, а другой - наружного наблюдения.
Начальство внушало филерам, что наблюдение должно быть строго конспиративным и что лучше всего бросить его, чем дать себя заметить. Если наблюдаемый ускользал от филера, последний должен был, не боясь выговоров и взысканий, доложить об этом начальству. В тех случаях, когда филер скрывал, что ему не под силу вести наблюдение, и руководство узнавало об этом, его ждало строжайшее наказание. В розыскных учреждениях любили правду и к недобросовестным сотрудникам относились более чем сурово. Заведовавший наружным наблюдением Московского охранного отделения Е. П. Медников просто избивал филеров, дававших ложные сведения .
При необходимости применялось конное наблюдение из извозчика. Слежка за предполагаемой явкой, типографией и т. п. велась из квартиры напротив, или из извозчика, а на бойких улицах - переодетыми посыльными, торговцами и т. д., в помощь которым ставились пешие филеры, запиравшие выходы из улицы и бравшие «объекты» по пути . Опытные филеры добивались высокого совершенства, становясь виртуозами наружного наблюдения.
В зависимости от обстоятельств и местности, на которой велось наблюдение, филер мог костюмироваться. Порой он превращался в франто-вого приказчика, мастерового, подгулявшего купца, а то и в спешащую в магазин горничную. Широко использовались филеры-извозчики, благодаря своей мобильности существенно расши-
рявшие возможности наблюдения. Любопытно, что возить наблюдаемых им разрешалось лишь в исключительных случаях и непосредственно перед ликвидациями, причем филер обязан был торговаться с таким пассажиром, чтобы не вызвать подозрений. Все увиденное филер записывал в свою книжку, которая по заполнении сдавалась заведующему наблюдением. На основании таких книжек или дневников составлялась сводка наружного наблюдения, внешне похожая на чертеж солнечной системы. Центром здесь был наблюдаемый. На ближайшей к нему «орбите», в виде кружков, помещались организации, с которыми он контактировал, на следующей дома, в которые он заходил. Многочисленные стрелки и линии показывали связи между наблюдаемым, организациями и лицами, помеченными на диаграмме . Обязательность ведения такой отчетности была закреплена в «Инструкции начальникам охранных отделений об организации наружного наблюдения». Документ содержит указания по организации наружного наблюдения, порядок предоставления агентами отчетности о проделанной наблюдательной работе. Так, § 9 указанной инструкции предписывал филерам записывать сведения по каждому отдельному лицу в вечерних рапортах и передавать в охранные отделения, где и велся непосредственный учет информации .
Однако наиболее важное значение для охранных отделений имела внутренняя агентура. Основной задачей негласных (внутренних) агентов являлось проникновение в революционную среду и, прежде всего, в партийные ряды. В директивах департамента полиции указывалось, что ничто не может заменить секретного сотрудника, находящегося в революционной среде .
Внутреннее наблюдение вела секретная агентура. Особым отделом департамента полиции в 1914 г. была разработана «Инструкция по организации и ведению внутреннего наблюдения в жандармских и розыскных учреждениях». Этот документ подразумевал под «агентом внутреннего наблюдения» лицо либо «непосредственно состоящее в революционной организации, либо косвенно осведомленное о жизни и деятельности как самой организации, так и отдельных ее членов». Внутренняя агентура подразделялась на «секретных сотрудников», т. е. лиц, являвшихся членами организаций, и «вспомогательных сотрудников», или «осведомителей», т. е. тех, кто хотя и не состоял в организации, но каким-либо образом соприкасался с ней. Осведомители делились на постоянных, доставляющих систематические и связные сведения, и случайных, доставляющих информацию эпизодически и не имеющую связи. Осведомители, собирающие сведения за плату, за каждое указание, назывались
«штучниками». Инструкция 1914 г. указывала, что в правильно поставленном деле «штучники» нежелательны, так как, стремясь получить возможно больше денег, они начинают давать маловажную, а порой и лживую информацию и становятся дорогим и ненужным бременем для розыскного органа. Инструкция классифицировала агентуру и по профессиональному признаку.
Различались агентуры: тюремная - из лиц, содержавшихся под стражей, которые при «полезности» работы представлялись к сокращению сроков; сельская, вербовавшаяся чаще всего из владельцев трактиров, прислуги постоялых дворов и не имевших наделов крестьян; университетская, фабричная, железнодорожная и т. д. и т. п.
Наряду с осведомителями важную роль играли провокаторы. Осведомители сами не принимали активного участия в революционных организациях, а доносили о них. Провокаторы были, как правило, участниками революционных организаций. Именно они представляли наибольшую ценность для охранки. На их вербовку отводилось особое внимание .
Свидания с провокаторами происходили на конспиративных квартирах, так, чтобы избежать столкновения одного сотрудника с другим, при закрытых дверях; калоши и другие предметы не оставлялись в прихожей, агент не садился против зеркала или окна. Появляться на конспиративной квартире в форме или приходить к сотруднику домой офицерам категорически запрещалось .
Важную роль в агентурном деле играл карточный алфавит. В нем имелись карточки на всех, кто проходил по делам агентурного отдела. Карточки были разных цветов, в зависимости от партийной или социальной принадлежности лица, на которое они заводились. Например, красные -на эсеров; синие - на социал-демократов, зеленые - на анархистов, белые - на кадетов и беспартийных, желтые - на студентов .
В карточку обязательно включались карточки секретных сотрудников, так как они неизменно наблюдались и освещались другими агентами. Если в описываемых событиях принимал участие сам агент, он упоминался в списке наряду с другими лицами по фамилии и партийной кличке. В целях конспирации эти сведения заносились на его карточку, так что часто сотрудники доносили сами на себя .
Например, в Московском охранном отделении, среди прочих, имелась карточка на типографского рабочего, члена РСДРП А. С. Романова. Завербованный в марте 1910 г. Романов под кличкой «Пелагея» работал по Московской группе РСДРП, и по его карточке можно было прочесть донесение о нем сотрудника «Пелагеи», то есть самого Романова .
Департамент полиции, охранка буквально опутали страну агентурой. Агенты внедрялись не только в революционные организации, но и в различного рода профессиональные и благотворительные общества и организации.
В 1913 г. была создана газетная агентура для тщательного негласного наблюдения за сотрудниками газет. Своих агентов охранные агенты держали и в высших правительственных учреждениях для наблюдения за крупными сановниками .
Секретная агентура должна была представлять важные сведения о деятельности наблюдаемых ею организаций и обществ. Начальники охранных отделений, в свою очередь, после получения информации, перед непосредственным использованием должны были проверить ее достоверность с помощью наружного наблюдения. Основной задачей охранных отделений при использовании секретной агентуры являлось выяснение таких обстоятельств, которые позволили бы принять предварительные меры, предупредить преступления, не допуская их совершения.
Изучение архивных материалов свидетельствует о том, что охранные отделения начинают упраздняться в 1913-1914 гг. 15 мая 1913 г. товарищем министра внутренних дел В. Ф. Джунковским было ликвидировано большинство охранных отделений, а имеющиеся штаты переданы в территориальные губернские жандармские управления . Исключение составили Петербургское, Московское и Варшавское охранные отделения, которые просуществовали до Февральской революции 1917 г. Но методы охранных отделений, в том числе связанные с использованием секретной агентуры, наработанные за время их существования, не утратили своей актуальности. Бесспорно, практика использования методов внедрения в революционные организации, а также практика негласного наблюдения периода Российской империи позднее была проанализирована и использована сотрудниками секретных органов государства. Непосредственно большевики использовали советы бывшего товарища министра внутренних дел и командира Отдельного корпуса жандармов В. Ф. Джунковского, который после его ареста большевиками в определенной степени сотрудничал с представителями новой власти. Так, именно Джунковский советовал, как разложить изнутри белое движение испытанным способом, не раз применявшимся жандармами в борьбе с революционными организациями различного толка. Туда необходимо было внедрить людей, близких к руководителям контрреволюционных организаций по происхождению и биографии, причем эти люди должны быть постоянно под негласным контролем чекистов. Тогда успех будет обеспечен. Это были советы профес-
сионала. Не стесняясь методов царской охранки, чекисты привлекли бывшего жандарма в качестве консультанта к разработке и проведению самых известных чекистских операций «Трест» и «Синдикат-2». Потому-то и успех их был заведомо обеспечен .
При оценке деятельности секретных сотрудников царской охранки, а также деятельности спецслужб Российского государства в последующие периоды истории достаточно явно следует вывод о преемственности поколений. Лучшие профессиональные традиции агентов охранки нашли продолжение в деятельности чекистов советского времени, и не секрет, что осмысленный опыт прошлого - это одна из основ деятельности современных спецслужб.
Примечания
1. Сизиков, М. И. История полиции России (1718- 1917 гг.) [Текст] / М. И. Сизиков, А. В. Борисов, А. Е. Скрипелев. Вып. 2. М.: А.П.О., 1992. С. 42.
2. Федоров, К. Г. История полиции дореволюционной России [Текст] / К. Г. Федоров, А. Н. Ярмыш. Ростов н/Д, 1976. С. 69.
3. Макаричев, М. В. Политический и уголовный сыск России в конце XIX - начале XX века. По материалам Нижегородской губернии [Текст] : дис. ... канд. истор. наук / М. В. Макаричев. Н. Новгород, 2003. С. 81.
4. Рубцов, С. Н. История российской полиции [Текст] : учебное пособие / С. Н. Рубцов. Иркутск: ВСИ МВД РФ, 1998. С. 182.
5. ГАКО (Государственный архив Кировской области) Ф. 714. Оп. 1. Д. 542. Л. 102.
6. Сизиков, М. И. Указ. соч. С. 47.
7. Жилинский, Б. А. Организация и жизнь охранного отделения во времена царской власти [Текст] / Б. А. Жилинский. М., 1918. С. 10, 18-19.
8. Сизиков, М. И. Указ. соч. С. 48.
9. ГАКО. Ф. 714. Оп. 1. Д. 542. Л. 20об.
10. Рубцов, С. Н. Указ. соч. С. 182.
11. Сизиков, М. И. С. 44-45.
12. Рубцов, С. Н. Указ. соч. С. 183-184.
13. Чернышевский, Д. В. Карательная политика царизма 1881-1894 гг.: Истоки, характер, результаты [Текст] / Д. В. Чернышевский; под ред. д-ра ист. наук, проф. Н. А. Троицкого. Изд-во Саратов. ун-та, 1980. С. 14.
14. Рубцов, С. Н. Указ. соч. С. 186.
15. Сизиков, М. И. Указ. соч. С. 46.
16. Членов, С. Б. Московская охранка и ее секретные сотрудники [Текст] / С. Б. Членов. М., 1919. С. 27.
17. Рубцов, С. Н. Указ. соч. С. 187.
18. ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации). Ф. 102. Оп. ОО. 1913. Д. 366. Л. 30-34.
19. Сысоев, Н. Г. Жандармы и чекисты. От Бенкендорфа до Ягоды [Текст] / Н. Г. Сысоев. М.: Вече, 2002. С. 109.
П. А. Самоделкин
«СВОБОДНАЯ И МИРНАЯ ПОЛЬША» В ВИДЕНИИ РУКОВОДСТВА США в 1943 г.
В данной статье рассматриваются вопросы видения американским руководством в 1943 г. образа послевоенной Польши, ее места во внешней политике США во время Второй мировой войны, дается оценка увеличивавшегося советского влияния в ЦВЕ и польского фактора, влияющего на климат антигитлеровской коалиции.
1943 год стал переломным во Второй мировой войне. Он был ознаменован успехами на восточном фронте, первыми встречами лидеров Большой тройки. В то же время весной 1943 г. наблюдалось ухудшение отношений между СССР, с одной стороны, Великобританией и США - с другой, из-за сбоев поставок по ленд-лизу и оттягивания открытия второго фронта, а также разрыв польско-советских отношений в связи с Катынской трагедией.
Ф. Д. Рузвельт делал все возможное, чтобы улучшить эти отношения, причем альтернативный путь их развития не рассматривался. Возникает вопрос, а как в Америке представляли себе Европу и место в ней СССР во время войны? Какие соображения и мысли скрывались за идеями построения справедливого и безопасного мира объединенных наций? В зависимости от ответа на эти вопросы можно выявить, какую роль играл фактор Польши во внешнеполитическом планировании США.
Итак, в 1943 г. Рузвельтом было предпринято несколько неудачных попыток договориться с И. В. Сталиным о проведении конференции лидеров Большой тройки. К. Хэлл в своих мемуарах писал о большом беспокойстве, сопровождавшем предысторию организации встречи в Тегеране. Государственный секретарь с пониманием относился к усилиям ФДР укрепить отношения между СССР и США .
Помимо писем с предложениями Сталину рассматривался также вариант визита в Москву Дж. Дэвиса (посол в СССР в 1936-1938 гг.). Его подготовкой в марте - апреле 1943 г. непосредственно занимались Рузвельт и специальный помощник президента - Г. Гопкинс. Кроме стратегических вопросов Дэвису необходимо было обсудить со Сталиным проблему совместного послевоенного мирного урегулирования. В. Мальков считает, что затягивание войны в Европе отдаляло и ее победоносный финал на Тихом океане, от чего так зависела популярность президента и
САМОДЕЛКИН Павел Андреевич - аспирант кафедры всеобщей истории ВятГГУ © Самоделкин П. А., 2008
Царская охранка - это обиходное название структурных органов департамента полиции Министерства внутренних дел, действовавших на территории Российский империи. Полное наименование - Отделение по охранению общественной безопасности и порядка. Структура занималась в системе государственного управления в конце XIX - начале XX века играла важнейшую роль. Была создана в 1866 году, а распущена в марте 1917-го. В этой статье мы расскажем об истории этого подразделения, его агентах и провокаторах.
История создания
Царская охранка была создана при Санкт-петербургском градоначальнике в 1866 году. Формальным поводом стало покушение на Александра II, организованное террористом и революционером Дмитрием Каракозовым. Он стрелял в императора возле ворот Летнего сада, но промахнулся. Сразу был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Через несколько месяцев был повешен на Смоленской площади.
Изначально царская охранка располагалась на Большой Морской улице, позже была переведена на Гороховую. Охранное отделение входило в структуру департамента полиции Министерства внутренних дел, напрямую подчиняясь столичному градоначальнику. В своем составе имело обширную канцелярию, филерский отряд, охранную команду, регистрационное бюро.
Появление Второго и Третьего отделений
Второе охранное отделение было создано в Москве в 1880 году. Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел Михаил Лорис-Меликов.
В некоторых случаях московское подразделение царской охранки выходило в розыскной деятельности за пределы губернии, выполняя функции общероссийского центра политического розыска. Непосредственным исполнителем был специальный летучий отряд филеров, созданный в 1894 году. Его возглавлял Евстратий Медников, который считается создателем отечественной школы агентов наружного наблюдения. Непосредственным руководителем числился начальник охранного подразделения Летучий отряд был упразднен в 1902 году, его заменили постоянными разыскными пунктами, созданными при жандармских губернских управлениях.
Третье с 1900 года действовало на территории Варшавы. Еще через два года в связи с ростом революционного настроения в обществе открываются аналогичные подразделения в Екатеринославле, Вильно, Киеве, Казани, Саратове, Одессе, Харькове, Тифлисе. Они занимались политическим сыском в губерниях, вели наружное наблюдение, развивали сеть секретных агентур.
Разыскное дело

В 1902 году деятельность отделений начинает регулироваться новыми документами. Царская охранка сосредоточивает свою работу на разыскном деле. Полицейские и жандармские органы, имея сведения, которые могут быть полезны в ее деятельности, должны сообщать их для последующей разработки, арестов и осуществления обысков.
Число охранных отделений увеличивается буквально с каждым годом. К концу 1907 года их насчитывается уже 27. В отдельных районах отделения царской охранки начинают ликвидировать после подавления революции 1905 года. Если в губернии отмечается затишье оппозиционного движения, считается, что содержать в ней охранное подразделение нецелесообразно.
С 1913 года начинается повсеместная ликвидация охранных отделений по инициативе заместителя министра внутренних дел Владимира Джунковского. К началу Февральской революции они сохраняются только в Москве, Петрограде и Варшаве.
Районные охранные отделения
Подчинялись охранные отделения непосредственно департаменту полиции при Министерстве внутренних дел. Именно здесь давалось общее направление разыскной деятельности, решались вопросы распоряжения личным составом.
В декабре 1906 года председатель Совета министров Петр Столыпин создает районные охранные отделения. Им в обязанности вменяется объединять все учреждения политического сыска, функционировавшие в том районе.
Изначально их было восемь, но из-за роста революционного движения в Туркестане и Сибири в 1907 году появляется еще два.
Упразднение

История царской охранки закончилась в марте 1917 года, практически сразу после Февральской революции. Она была ликвидирована по решению Временного правительства. При этом часть архива была уничтожена еще в феврале.
Общая численность агентов царской охранки составляла около одной тысячи человек. При этом не менее двухсот из них работали в Санкт-Петербурге. В большинстве губерний на службе состояло по два-три сотрудника охранного отделения.
При этом, помимо официального штата, имелась специальная агентура. У царской охранки были так называемые филеры, которые вели наружное наблюдение, а также осведомители, которых засылали в политические партии.
Специальная агентура
Специальные агенты играли важную роль. Их незаметная на первый взгляд работа позволяла создать эффективную систему профилактики оппозиционных движений и слежки.
Перед Первой мировой войной насчитывалось около одной тысячи филеров и примерно 70,5 тысячи стукачей. В обеих столицах каждый день на службу отправлялось от пятидесяти до ста агентов наружного наблюдения.
Чтобы стать агентом царской охранки, следовало пройти жесткий отбор. Кандидата проверяли на трезвость, честность, ловкость, смелость, сообразительность, терпение, выносливость, осторожность и настойчивость. Преимущественно на эту службу брали молодых людей неприметной внешности не старше 30 лет. Это были настоящие ищейки царской охранки.
В стукачи принимали дворников, швейцаров, паспортистов, конторщиков. Они были обязаны доносить о любых подозрительных личностях участковому надзирателю, к которому были прикреплены. В отличие от филеров, стукачи не считались штатными сотрудниками, поэтому им не полагалось постоянное жалование. Им платили за полезные сведения от одного до пятнадцати рублей.
Перлюстраторы
Специальные люди занимались чтением частной переписки. Это называлось перлюстрацией. Такая традиция существовала еще со времен Бенкендорфа, активизировались агенты после убийства Александра II.
Так называемые черные кабинеты существовали во всех крупных городах страны. При этом конспирация была такой тщательной, что сами сотрудники не знали о существовании подобных подразделений в других местах.
Сеть внутренних агентов
Эффективность работы повышалась за счет разветвленной сети внутренней агентуры. Сотрудников внедряли в различные организации и партии, которые осуществляли контроль их деятельности.
Существовала даже специальная инструкция по вербовке секретных агентов. В ней советовали отдавать предпочтение тем, кто ранее привлекался к политическим делам, а также обиженным или разочаровавшимся в партии, слабохарактерным революционерам. Они получали оплату в размере от пяти до 500 рублей в месяц, в зависимости от пользы, которую приносили, и своего статуса. Их продвижение по карьерной лестнице в партии всячески поощрялось. Иногда в этом даже оказывалась помощь за счет ареста членов партии, стоявших выше.
При этом в полиции с осторожностью относились к желающим добровольно заниматься охраной общественного порядка, так как в эту категорию попадало много случайных людей.
Провокаторы
Деятельность агентов, которые были завербованы охранкой, не ограничивалась передачей полезных сведений полиции и шпионажем. Часто им поручалось провоцировать действия, за которые членов нелегальной организации можно было бы арестовывать. Например, агенты подробно сообщали о времени и месте проведения акции, полиции после этого не составляло никакого труда задержать подозреваемых.
Известно, что создатель ЦРУ Аллен Даллес отдавал должное русским провокаторам, отмечая, что они подняли это ремесло до уровня искусства. Даллес подчеркивал, что это был один из основных способов, с помощью которого охранка выходила на след инакомыслящих и революционеров. Изощренность русских провокаторов восхищала американского сотрудника спецслужб, он их сравнивал с персонажами романов Федора Достоевского.
Азеф и Малиновский

Самый известный провокатор в истории - Евно Азеф. Он параллельно руководил партией эсеров и был тайным агентом полиции. Не без оснований его считали непосредственно причастным к организации убийства министра внутренних дел Российской империи Плеве и Великого князя Сергея Александровича. При этом по указке Азефа арестовывались многие известные члены боевой организации эсеров, он был самым высокооплачиваемым агентом империи, получая около одной тысячи рублей в месяц.
Успешным провокатором был и один из большевиков, близко общавшийся с Владимиром Лениным, Роман Малиновский. Он периодически оказывал помощь полиции, сообщая о конспиративных встречах и тайных собраниях однопартийцев, местонахождении подпольных типографий. До самого последнего момента Ленин отказывался верить в предательство товарища, настолько он его ценил.
В результате при содействии властей Малиновский даже добился избрания в Государственную думу, причем от большевистской фракции.

Подробно о нем и других агентах, оставивших свой след в истории, рассказывается в исследовании Владимира Жухрая "Тайны царской охранки: авантюристы и провокаторы". Впервые книга была издана в 1991 году. В ней подробно описываются интриги и закулисная борьба в высших чинах жандармерии, правящих кругах царской России, охранки и полиции. Автор "Тайн царской охранки" за основу берет мемуары и архивные документы, предпринимая попытку проникнуть в историю отечественного политического сыска.
Громкое убийство

Одним из самых провальных дел в истории охранных подразделений царской России считается убийство премьер-министра Столыпина в 1911 году. Чиновника застрелил анархист Дмитрий Богров, который к тому же был секретным осведомителем охранки. Он дважды в упор выстрелил в Столыпина в оперном театре в Киеве.
В ходе следствия в числе подозреваемых фигурировали руководитель охранного отделения в Киеве Николай Кулябко и глава дворцовой охраны Александр Спиридович. Но по поручению Николая II следствие внезапно было прекращено.
Многие исследователи считают, что и Спиридович, и Кулябко сами были причастны к убийству Столыпина. Например, Жухрай в своей книге утверждает, что они не только были в курсе того, что Богров планирует стрелять в Столыпина, но и всячески этому содействовали. Именно поэтому поверили в его легенду о неизвестном эсере, собирающемся убить премьер-министра, позволили ему пройти в театр с оружием для разоблачения мнимого террориста.
Противостояние с большевиками

После боевой организации эсеров главной угрозой самодержавия были большевики. К ним было приковано пристальное внимание со стороны агентов разного уровня. Подробно об этом пишет в своей книге "История большевиков в документах царской охранки" Николай Стариков.
Среди огромного числа партий в России в начале XX века именно большевистская выделялась целеустремленностью и целостностью.
В своем исследовании автор подробно описывает, как взаимодействовали царская охранка и революцеонеры. Как выясняется, среди большевиков было немало предателей, провокаторов и двойных агентов. Информация об этом сохранилась в многочисленных документах. В книге приведены донесения наружного наблюдения, партийные псевдонимы, вскрытые письма.
Действия за границей
С 1883 года охранка действовала и за рубежом. В Париже было создано подразделение для наблюдения за эмигрантами с революционными взглядами. Среди них были Петр Лавров, Мария Полонская, Лев Тихомиров, Петр Кропоткин. Интересно, что в число агентов входили не только русские, но и местные французы, которые шли вольнонаемными.
До 1902 года руководителем зарубежной охранки был Петр Рачковский. Эти годы считаются временем расцвета ее деятельности. Именно тогда была разгромлена народовольческая типография в Швейцарии. Однако затем в немилость попал сам Рачковский, которого заподозрили в сотрудничестве с французским правительством.
Когда о сомнительных связях главы зарубежной охранки стало известно министру внутренних дел Плеве, он немедленно направил в Париж генерала Сильвестрова, чтобы проверить обоснованность данных сведений. Вскоре Сильвестров был обнаружен убитым, мертвым нашли и агента, который донес на Рачковского. Его убрали со службы. Продолжить карьеру ему удалось в 1905 году в департаменте полиции под руководством Трепова.
Начало 1915 года было увенчано тайным совещанием лидеров младотурок. В предводителях у них были Исмаил Энвер-паша, Мехмед Талаат-паша, Ахмед Джемаль-паша, идейные вдохновители и зачинщики геноцида армян, одержимые сперва идеей панисламизма – весь мир только для мусульман, а после – пантюркизма: в гашишном угаре они уже видели Великую Турцию, простирающуюся на значительную часть Европы и чуть ли не на всю Азию.
Махровые человеконенавистники, подобно султану Абдул-Гамиду II, они намерены были раз и навсегда покончить с «армянским вопросом», искоренив весь армянский народ.
Выразителем бредовой этой мечты на тайной той сходке явил себя доктор Назым-бей, один из лидеров младотурок – партии «Иттихад ве Тераки», что в переводе означает «Единение и прогресс»:
«Армянский народ надо уничтожить в корне, чтобы ни одного армянина не осталось на нашей земле (то бишь в Османской империи. – М. и Г.М.) и забылось само это имя. Сейчас идет война, такого удобного случая больше не будет. Вмешательство великих держав и шумные протесты мировой прессы останутся незамеченными, а если они и узнают, то будут поставлены перед совершившимся фактом, и тем самым вопрос будет исчерпан.
На этот раз наши действия должны принять характер тотального истребления армян; необходимо уничтожить всех до единого… Я хочу, чтобы на этой земле турки и только турки жили и безраздельно господствовали. Пусть исчезнут все не турецкие элементы, к какой бы национальности и религии они не принадлежали».
Так была запущена машина массового истребления армян.
В ночь на 24 апреля 1915 года по всему Константинополю прокатились аресты. Аресты, по указке свыше, исполнители-турки старались проводить без лишнего шума. Полицейские в штатском любезно просили хозяина дома пройти с ними в участок – буквально на пять минут, чтобы ответить на несколько вопросов. Поднимали людей с постели, прямо в пижаме и тапочках, уводили в центральную тюрьму города.
Как ни странно, те, кого полицейские не заставали дома, сами являлись в полицию, недоумевая, с чего это они властям понадобились.
Доктор-армянин Тигран Аллахверди, активный член партии младотурок, арестованный той ночью, пребывал в полной растерянности: не ошибка ли вышла?! В голове у него не укладывалось, как это его, организатора неоднократных акций по сбору средств в кассу партии, да задержали вдруг. Он и заподозрить не мог, что вся его вина в том, что уродился армянином.
Примерно та же судьба постигла законопослушного профессора Тиграна Келеджяна, издателя протурецкой газеты «Сабах». В начальнике лагеря для интернированных он узнал своего бывшего студента. Тот из почтения к любимому наставнику шепнул ему на ухо, что получен приказ за подписью Талаат-паши об уничтожении заключенных, и даже попытался помочь ему выбраться из лагеря. Решив, что арест его не больше чем недоразумение, наивный профессор и пальцем не шевельнул для своего спасения. Убили Келеджяна по дороге в Сивас. Из 291 узника того лагеря уцелели лишь 40.
С той роковой ночи и в течение нескольких недель в одном только Константинополе было взято под арест около 800 видных армян. Жертвами козней младотурок стали поэты и писатели Ерухан (Ерванд Срмакешханян), Рубен Зардарян, Тигран Чекурян, Тлкатинци, Левон Шант, актер Еновк Шаен, художник Грант Аствацатрян, епископ Смбат Саадетян, архимандриты Анания Азарапетян, Мкртич Члхатян…
Обо всех, кто пал в результате чудовищного злодеяния турок, не напишешь. Мы решили чуть подробнее поведать о тех, чьи имена едва ли не у всех на устах.
Даниел Варужан — Любимец языеских богов
В 1908 году, в письме к журналисту Теодику, Даниел Варужан сетовал: «Биография моя умещается на одной странице, ибо не жил я еще плодотворной жизнью…»?Далее он пишет, что «родился в 1884 году близ города Себастии, в селе Бргник», где и прошло его детство «в мечтаниях под сенью грустных ракит». Отец, как он помнит, уезжал на заработки в Константинополь, мать же, сидя у тонира, долгими зимними вечерами занимала его ум «рассказами о волках и янычарах». Признается, что, едва начав читать церковные книги, был увезен отцом в Константинополь: «это были ужасные дни погромов 1896 года…»
1902 год забрасывает Варужана в Венецию, в школу мхитаристов Мурад Рафаэлян. В один из свободных от занятий дней едет он на остров Сан-Лазар – поклониться праху Гевонда Алишана, выдающегося армянского ученого и поэта. В память об Алишане Варужан и издаст свою первую книгу стихов, написанную им в Венеции.
В 1906 году, окончив школу Рафаэлян, Варужан продолжает учебу в Каннском университете. В студенческом блокноте он оставил запись: «Здесь я спокоен, посещаю отделения философии и литературы… Преподаватели меня полюбили, кажется за то, что я армянин». Врожденная скромность не позволила поэту признать, что сим благоволением обязан он прежде всего себе – успехами в учебе.
По завершении образования Варужан возвращается на родину – «благоустроить родной очаг». В школе Сваза учительствует, снискав любовь и уважение учеников и их родителей. Незаурядным талантом и силой поэтического воображения вызывает зависть и ненависть учителей из монахов-католиков. Обращаясь к ним, Варужан восклицает: «О, папство! Не надо нам от тебя спасения, прекрати содеянное тобою зло».
Утешение от житейских невзгод находит Варужан в целомудренной девушке-провинциалке Араксии, ставшей его музой и женой. Стоя на коленях, признается он даме своего сердца: «Теперь ты вправе ждать от меня новых песен. Обещаю дать их тебе, ведь теперь, моя муза, ты дала мне крылья». Отцовское чувство к дочери Веронике он изливает в стихотворении «Варужнакис» – частичке его души.
Издав в 1912 году свой лучший поэтический сборник «Языческие песнопения», Варужан с семьей перебирается в Константинополь…
Проводив зашедших проведать его друзей, Варужан к полуночи собирался отойти ко сну. Тут в дверь постучали. Годы спустя вдова поэта вспоминает: «Варужан был полуодет, я пошла отворять дверь… Приоткрыв ее, я увидела трех человек. Толкнув дверь, они вошли со словами: «Где эфенди?» Пройдя в комнату мужа, они обыскали ее и, захватив рукописи поэта, увели его с собой».
Один из непрошеных гостей, обращаясь к Араксии, сказал: «Эфенди должен пойти с нами – подтвердить, что бумаги эти принадлежат ему».
Случилось это в ночь на 24 апреля. После она уже не видела его в живых. Варужану шел тридцать первый год.
Рубен Сева — Мученик по призванию
В мир пришел Рубен Севак (Чилинкирян) 15 февраля 1885 года в селе Силиври близ Константинополя в семье ремесленника-торговца. Окончил местную школу, позже – семинарию Берберян в Константинополе. Затем уехал в швейцарскую Лозанну – учиться в университете на медика.
Первые пробы пера относятся к 1905 году, однако его единственный прижизненный сборник стихов – «Красная книга» – увидел свет в 1910 году. Книга-хроника от первой до последней страницы о неисчислимых бедах родного народа: поэмы «Безумец погромов», «Турчанка», «Песня о человеке» составили костяк сборника. В периодике сохранились отдельные стихи из сборников «Книга любви», «Последние армяне», «Хаос», так и оставшиеся в рукописи.
Проявил он себя и как блестящий прозаик и публицист. Порукой тому страницы его сочинений о жизни и борьбе европейских рабочих за право на достойное существование, а также цикл рассказов «Страницы, вырванные из дневника врача. 1913 – 1914». Писаны эти вещи в часы ночных дежурств в пору его работы в больнице Лозанны.
Личная жизнь Рубена Севака сложилась более или менее удачно. В 1910 году его очаровала златокудрая фея Янни Апель, дочь прусского полковника из аристократов. Она подарила мужу сына Левона и дочь Шамирам.
«Красная книга», вышедшая в год его женитьбы, стала откликом на резню в Адане, учиненную уже младотурками. Только за две недели 30 тысяч безвинных жертв. Автор книги словно провидел апокалипсис армян Османской Турции.
Любящая жена, прелестные дети, престижная работа в клиниках Швейцарии, вилла на берегу озера Лемак… Казалось бы, чего еще желать? Его, блистательного врача и кавалера, писаного красавца, охотно принимали в лучших поэтических салонах Европы… Казалось бы… Но выбрал он для себя путь столь же мученический, какой уготован был его умному многострадальному народу: в 1914-м, оставив все это позади, Рубен Севак отправляется в Константинополь, чтобы уйти в небытие…
Леденящие кровь строки его берут за душу:
«Вот мы идем! – Кричат. –
И колесо
Страданий наших
мы вперед толкаем.
И дрожь стоит от наших голосов.
Мы по живым идем и повторяем:
«Вот мы идем!»
Дороги не закрыть
Пред яростью могучей
нашей силы.
Идем, чтобы заставить говорить
Бесчисленные общие могилы».
Глубокой ночью 24 апреля 1915 года, когда за Рубеном Севаком пришли, жена его в панике бросилась к послу Германии Вагенгейму, моля его спасти жизнь мужу. Холодный ответ отрезвил ее: «Немка ты недостойная, презрев свою нацию, вышла за чужого, за армянина, а теперь слезно просишь, чтобы я его спас?!
Он не должен вернуться. Он ушел умирать». «У меня есть сын, теперь я воспитаю его так, чтобы когда-нибудь он отомстил немцам за отца», – презрительно ответила Янни Апель и швырнула послу в лицо германский паспорт.
Пройдут годы, и исполненная достоинства немка, насмотревшись страданий народа, брошенного Германией на растерзание туркам, откажется от немецкого подданства, даже перестанет говорить на немецком и, изучив армянский язык, даст своим детям армянское образование. В декабре 1967 года, когда Янни Апель не станет, дети, следуя воле матери, проводили ее в последний путь по армянскому обряду.
На рассвете 26 августа 1915 года группу из пяти человек турецкие жандармы под предлогом перевода их в другое место посадили в арбу и вывезли. Среди них были Рубен Севак и Даниел Варужан. Путь «экипажу» в дороге преградили неизвестные. Они выволокли связанных армян, привязали к деревьям и стали без спешки невозмутимо колоть и резать своих жертв кинжалами.
А сколько еще? было подобных инсценировок? Имена палачей история не сохранила. Но нетленными остались слова Рубена Севака: «Хотелось бы перед окончательным возвращением на родину поехать в Венецию и провести там хотя бы одну весну, одну из считаных весен??моей жизни. Хочется жить, чувствовать, что живешь… в предчувствии смерти».
Открывая в канун 100-летия геноцида армян в Османской империи музей Рубена Севака в Святом Престоле, Католикос всех армян Гарегин II сказал:
«Музей – дань уважения и преклонения как перед Рубеном Севаком, так и перед Григором Зограбом, Сиаманто, Варужаном, Комитасом, другими нашими великими деятелями, перед памятью полутора миллионов наших безвинных жертв, которые не отреклись от своей веры и родины и приняли терновый венец.
Они погибли, храня в сердце веру, что армянский народ жив и будет жить в вечности. Музей посвящается 100-летию геноцида армян и имеет особое значение. Посредством своих посетителей он превратится в неумолкаемую колокольню, голос которой будет услышан во всем мире, способствуя усилиям, прилагаемым для международного признания геноцида».
Лоза гнева Сиаманто
Атом Ярджанян, известный миру как поэт Сиаманто, родился в 1878 году в образованной купеческой семье в городе Акн, что на правом берегу Евфрата. Получив начальное образование в родном Акне, по настоянию родителей убыл в Константинополь. В город детства он уже не вернется.
Лоза Гнева, начав набирать силу еще в юные годы его на берегах полноводного Евфрата, корнями своими уходила в тысячелетия истории армян. Плоды и листья его Лозы, вобрав в себя душевную хронику одной из древнейших культур мира, внесли в его творчество опыт умозрения народа, неотделимый от его судьбы. Сквозь мечтательную грусть и печаль поэта пророс терновник геноцида.
Первые же губительные шаги геноцида, маховик которого запущен был в 1894 – 1896 годах кровавым Абдул-Гамидом II, подвигли отца начинающего поэта во спасение сына вывезти его из охваченного погромами и резней Константинополя в Египет. На чужбине глазам легкоранимого Атома открылась ужасающая картина бедствий: бесконечные толпы беженцев, их неимоверные страдания запали в душу юного поэта как призрак смерти.
Не тогда ли с новой силой зашуршали соки жизни в его Лозе Гнева?!
Первым осадком от горьких впечатлений виденного им в Египте стало стихотворение «Сосланная свобода», опубликованное в 1898 году в журнале «Завтрашний голос», выходящем на армянском языке в английском Манчестере. На картины беженских судеб наложился образ разоренного в 1896 году бесчинствами турецких властей родного очага – Акна.
К моменту появления этого публицистического выплеска эмоций Атом Ярджанян уже учился в Европе – в университетах Женевы и Парижа. Боль и сострадание пульсируют у него в висках.
Нищета и хвори вконец подорвали слабое здоровье Атома. Всем смертям назло он получает блестящее образование. Живя в европейских столицах, проникается искусством, историей и литературой этих стран и народов.
Помимо бед, настигших его народ, цепляются к нему беды личного порядка: лечится от чахотки в горах Швейцарии, встречает там любовь и познает горечь измены. Но добивает его весть о самоубийстве отца, не выдержавшего унижений.
Придя в себя от потрясений, он налаживает связь с «Союзом армянских студентов Европы», тесно общается с учеными-монахами из конгрегации католиков-армян Вены и острова Святого Лазаря близ Венеции. Круг его друзей ширится. Уроженцы Акна – он, публицист, литературный критик Аршак Чопанян, новеллист Григор Зограб находят друг друга и уже не расстаются. Тетради его стихов переходят из руки в руки. О лирике Атома Ярджаняна, всем теперь известного как Сиаманто, тепло отзываются поэты Даниел Варужан, Ваан Текеян, Аветик Исаакян, актер-трагик Ваграм Папазян, драматург Александр Ширванзаде…
Прижав к худосочной груди тоненькую книжицу первого своего стихотворного сборника «Героическое», Сиаманто задумчиво бродит по полуночной Женеве, где она увидела свет в 1901 году. Читая вслух собственные стихи, пронизанные болью за страдания своего народа, он словно слышит крики о помощи насилуемых в Османской Турции армянок, видит переносные виселицы, на которых гибнут их сыновья, мужья и братья, зрит разоренные храмы и поруганные алтари веры армянской…
Сиаманто ловит себя на мысли, что стал он поневоле продолжателем исканий своего духовного отца из X века – Григора Нарекаци, автора «Книги скорбных песнопений», будто дописывает ее страницы. А ведь между Нарекаци и Сиаманто пролегли уже девять столетий вопрошений к Господу: «В чем вина уверовавшего в Тебя народа?!»
В 1909-м, спустя год после прихода к власти в Османской империи младотурок, в Константинополе выходит еще один сборник стихов Сиаманто – «Кровавые вести от друга». В нем он открыто, в полный голос, говорит о лживой природе этих так называемых революционеров.
Статуя Свободы, как вожделенный образ чаяний своего народа, зовет его в Америку. Там, в Бостоне, в 1910 году издает он уже целый том своих горестных песен. Успел побывать Сиаманто и на Кавказе, в Тифлисе. В этом городе, населенном преимущественно армянами, увидела свет книжка поэта «Святой Месроп». Привелось ему в 1913 – 1914 годах увидеть и Восточную Армению. Обратный путь в Европу «уникума мировой литературы», как охарактеризовал его Аветик Исаакян, лежал через Константинополь. Но там Сиаманто накрыл черный апрель 1915-го…
Смерть свою нашел он на изнурительном пути к берегам Евфрата, где мысленно высадил Лозу Гнева, которая, как он уверовал, однажды обернется символом единения нации на свободной земле исторической родины.
Григор Зограб — Дорога в Ад пустыни Дэр — Эс — Зор
Получив высшее образование в Константинополе, Григор Зограб сразу же стал заниматься адвокатской практикой, читал в местном университете лекции по праву. Стоя на гражданских позициях, он в 1895 – 1896 годах не убоялся защищать права в абдул-гамидовских судах политических обвиняемых.
Его правозащитная деятельность привела власти в ярость, и он вынужден был покинуть страну и обосноваться во Франции. Переворот младотурок в 1908 году позволил ему вернуться в Турцию. И снова он на гребне событий. Став депутатом армянского Национального собрания, избирается он еще и в османский парламент – меджлис, где яро отстаивал национальные права всех народов и народностей страны, ратовал за реформы в законодательстве и образовании, за равные с мужчинами права турецких женщин. В поле его зрения были и вопросы, связанные с созданием условий для развития промышленности, сельского хозяйства, науки, искусства.
В 1909-м, в разгар резни армян в Адане, Зограб публично клеймит погромщиков, теперь уже младотурок, называя их прямыми наследниками султана Абдул-Гамида II. Предъявленный им турецкому правительству протест получил широкий резонанс.
Армянский вопрос, который сводился к требованию создать в рамках Османской империи армянскую автономию, занимал его ум и время: в 1912 – 1914 годах он вел активные переговоры с послами великих держав в Константинополе, искренне надеясь более всего на помощь России. Его работа «Армянский вопрос в свете документов», опубликованная в 1913 году в Париже на французском языке и подписанная «Марсель Леар», была адресована большей частью правителям стран Европы.
Комитас — Узник Виль Жуифа
В 1881 году сын сапожника Геворга Согомоняна из Кутины, затерянной в бескрайней Анатолии, предстал в Святом Эчмиадзине пред очи Католикоса всех армян Геворга IV. Привез голосистого отрока-сироту местный священник по просьбе Патриарха. На первый же его вопрос мальчик ответил на турецком: «Я не говорю по-армянски, если хотите – спою».
Не разумея смысла слов, он исполнил армянский шаракан – духовный гимн. Проникновенный сочный голос растопил душу Патриарха. Его зачисляют в духовную семинарию Геворгян.
В 1890 году Согомона, в совершенстве освоившего родной язык, посвящают в сан монаха. А еще спустя три года он завершает обучение в семинарии, принимает сан священника и берет себе имя Комитас, в память о выдающемся поэте-католикосе VII века, авторе шараканов.
Ведя уроки музыки в родной семинарии, он создает хор, оркестр народных инструментов, принимается за обработку народных песен, очищая их от наслоений мелодики завоевателей – персов и турок. Рождаются первые труды об армянской церковной музыке.
В 1895-м, получив духовный сан архимандрита, едет в Тифлис учиться в музыкальном училище, где курс композиции ведет уже снискавший себе известность композитор Макар Екмалян. После едет в Берлин – в частную консерваторию профессора Рихарда Шмидта. Одновременно посещает императорский университет Берлина, слушает там лекции по философии, эстетике, общей истории и истории музыки.
Вернувшись в Святой Эчмиадзин, ведет занятия по родной музыке в семинарии. С головой уходит в изучение духовной музыки, занимается расшифровкой древней армянской нотописи – хазов. Оказавшись перед стеной непонимания и равнодушия, Комитас оставляет Эчмиадзин и едет в Константинополь.
Подтолкнуло его к этому шагу и событие, имевшее место в Тифлисе. Публицист и литературовед Аршак Чопанян так описывает личную драму друга своего Комитаса:
«Виделся я с Комитасом в конце 1909 года в Эчмиадзине, когда принимал участие в выборах католикоса. Хотел бы, как бы между прочим, рассказать о том, чему свидетель был в Тифлисе. На обеде, данном местной армянской общиной в честь депутатов – турецких армян, удостоены были чести услышать Ашуга Дживани уже преклонных лет. Усталым, чуть охрипшим голосом под свой саз исполнил он несколько своих чудесных песен, тронув наши сердца. Следом выступил Комитас, изумив нас своими задушевными песнями».
Надеясь устроить в Тифлисе сольный концерт Комитаса, Чопанян пытался упросить денежных тузов общины скинуться хотя бы на аренду концертного зала. В ответ услышал: «Пусть он сам устроит концерт, а мы поможем ему билеты распространить». Чопанян с горестью пишет: «Средств таких у Комитаса не было, что весьма его опечалило. Он отказался от этой идеи и вернулся в Эчмиадзин».
В Константинополе Комитас продолжает напряженно работать. Его шедевр «Патараг» («Литургия») для мужского хора вошел в сокровищницу мировой музыки. Навестив Комитаса в 1914 году, русский композитор Михаил Гнесин уверил его, что расшифровкой хазов, в которых сокрыто подлинное звучание церковных мелодий, он не только проливает свет на древнюю армянскую музыку, но и дает прочтение музыки других народов Востока.
Свой триумф Комитас пережил в Париже, когда в том же 1914-м ему рукоплескала вся образованная Европа. Фредерик Маклер, профессор Сорбонны, писал, что лекции и концерты армянского композитора вызвали бурю восторгов и всеобщее восхищение.
Предчувствие надвигающейся беды не обмануло Комитаса. Тревога его нарастала. События, одно другого пугающие, накатывали, терзая душу. Апрель 1915-го не обошел и его. Ссылка в глубь Анатолии, сопровождаемая насилием, явила ему картины ужасающие: на глазах у него пытали и истязали детей, стариков, женщин. Психика человека утонченного не выдержала. Благодаря исключительно заступничеству влиятельных друзей и поклонников его таланта Комитас был возвращен в Константинополь.
К 1916 году здоровье его было окончательно подорвано, и он помещен был в клинику для душевнобольных в Виль-Жуифе – предместье Парижа.
Близкий друг узника Виль-Жуифа художник Фанос Терлемезян вспоминает:
«В один из мартовских дней 1921 года решил я провести с Комитасом утро. Вошел в его комнату в сопровождении санитара. Застал его лежащим. Он вскочил, я кинулся ему на шею и стал целовать, целовать… Зажав в ладонях лицо мое, нежно пошлепал по щекам и назидательно сказал: «Дай-ка я тебя отшлепаю, отшлепаю!» Потом сказал: «Сядь», сам стоять остался, и потекла беседа.
– Комитас, – начал я, – знаю, зол ты на мир, имеешь право. И я от него не в восторге, но нельзя же веки вечные дуться. Все мы с нетерпением ждем тебя.
В ответ он ударился в рассуждения о семантике и философии моих слов. Я заметил, как лицо его стало суроветь. Высказался о живописи: «Кроме света и природы, писать ничего не надо».
Я предложил ему съездить со мной на Севан.
– А что мне там делать?
Когда я завел речь об Эчмиадзине, на лице его и мускул не дрогнул.
– Давай выйдем – погуляем.
– Мне и здесь хорошо, – ответил.
Когда же зашел разговор о жизни и смерти, выдохнул: «Смерти, как таковой, нет». Рванув на себя дверь комнаты, вскричал: «Что она есть, моя келья, если не могила?!» Желая успокоить друга своего, мягко сказал: «Пойду, пожалуй, чтобы не утомлять тебя». «Ты что?! Уж коли пришел, так посиди со мной».
Позволил себе сказать, что собираюсь привести к нему одного из его друзей, который специально в Париж приехал – на актера учиться. «На что ему ремесло это?!» И привел несколько речений Агатангелоса. Однако, уловив, что смысл сказанного им на кондовом грабаре так до меня и не дошел, пояснил: «Свиньи, валяясь в грязных лужах, мнили, что купаются славно».
Завел речь о его учениках. Несказанно рад был, что в Париж учиться они приехали. Спросил, чья музыка лучше, наша, армянская, или европейская? «Брат (серчаясь), уж не вздумал ли ты из абрикоса вкус персика высосать?? Прелесть вкуса у каждого своя».
«Ты не спел бы мне», – справился. «Спою», – кивнул в ответ. «Коли не жаль, Комитас-джан, тогда спой что-нибудь для меня». «Нет, пою я сейчас только для себя, да и то в себе».
Еще с полчаса перекинулись мы о том, о сем, и вдруг, помрачнев, он открыл дверь, пошел к окну и прижался лицом к стеклу. И замер. Оделся, сказал – счастливо оставаться, и, так и не получив ответа, вышел».
Прошло восемь лет, и вновь Фанос Терлемезян возжелал увидеть друга своего. Об этой последней встрече у него всего пара строк:
«В 1928-м я еще раз посетил Комитаса. Он лежал в саду лечебницы и мечтательно смотрел в небо. Вконец поседел. Подошел и минут тридцать задавал ему всякие вопросы, но ни на один из них он так и не отреагировал. Так мы с ним и расстались».
22 октября 1935 года жизнь великого Комитаса оборвалась. Весной 1936-го прах его был перевезен в Армению и предан земле в Ереване. Так и возник Пантеон деятелей культуры.
Парамаз: «Там где мы будем покоиться, возьмет свое начало Воскресенье
15 июня 1915 года в Константинополе на площадь Султана Баязида вывели двадцать членов партии «Гнчак» во главе с Парамазом, их известным трибуном. Они взошли на эшафот, движимые мечтой о независимой Армении. В вину им вменили попытку государственного переворота. Схваченные 12 июля 1914 года по доносу предателя из своих, они предстали перед турецким военным судом как террористы.
Арестованы были перед подготовленным покушением на Талаат-пашу, изображавшего из себя «лучшего из друзей» армянского народа, но уже вынашивавшего с соратниками по партии младотурок зловещий план геноцида.
Уже с петлей на шее Парамаз бросил в лицо судьям:
«Вы веками жили как кровопийцы нашей жизненной силы и, в то же время, не хотели, чтобы источник этой силы – армянский народ – имел право на существование. Среди населяющих эту страну народов армяне были самой главной созидательной силой и самой преследуемой. Преследуемых? за одну только мечту о независимой Армении, нас, ее сыновей, вы собираетесь отправить на виселицу??
Мы не сепаратисты в этой стране, господа судьи. Наоборот, это она хочет отделиться от нас, своих коренных жителей, желая уничтожить нас только за то, что мы армяне. Но я прощаю ее, не прося пощады. Вы повесите нас, двадцать человек, а завтра следом за нами придут двадцать тысяч.
И там, где мы окончим свой жизненный путь, там воспрянет Свобода. Там, где мы будем покоиться, возьмет свое начало Воскресение!»
Поочередно все двадцать приговоренных поцеловали крест, тайком переданный им одним из конвоиров. Символ веры армянской придал им духа в час, когда в руках у них не было ни оружия, ни боевого знамени. Крест стал единственным звеном, связующим их с родным народом, ради которого и приняли они мученическую смерть.
В музее при Святом Эчмиадзине этот заветный крест не всем и не сразу бросается в глаза. Но велика его притягательная сила. Он уже стал святыней.
Время донесло до нас имена, увы, не всех двадцати страдальцев. В день поминовения усопших Церковь в молитвах чтит их поименно: Парамаза из зангезурского села Мегри, Мурада Закаряна из села Цронк области Муш, Акопа Басмаджяна и Товмаса Товмасяна из Килиса, Гранта Екавяна и Арама Ачгапашяна из Арабкира, Еремию Мананяна из Константинополя, Петроса Манукяна из Харберда (известного как арабист доктор Пенне), Ерванда Топузяна из села Партизак, Гегама Ваникяна (известного под псевдонимом Ваник, редактора издаваемого до начала Первой мировой войны в Константинополе журнала «Кайц»).
Парамаз, он же Матевос Саркисян-Парамазян, родился в 1863 году в селе Мегри Эриванской губернии (ныне в области Сюник Республики Армения). Начальное образование получил в родном селе, после попал в Эчмиадзинскую семинарию Геворгян, откуда отчислен был за непослушание. Занимался самообразованием, учительствовал в Нахичеване и Ардабиле. Потом втянулся в национально-освободительную борьбу, став членом партии «Гнчак».
Сколотив свой отряд фидаинов, в 1897 году он попытался прорваться в Ван, что в Западной Армении, но был схвачен турками и предан суду. На суде Парамаз открыто обвинил власти Османской империи в преднамеренных погромах, учиняемых в городах и селах, населенных преимущественно армянами. Вызволил из лап палачей приговоренного к смертной казни Парамаза русский вице-консул в Ване. Его выслали на Кавказ, где он вскоре был выпущен на свободу.
В октябре 1903-го Парамаз подготовил и осуществил покушение на Главноначальствующего Кавказа князя Григория Сергеевича Голицына, злобного арменофоба. Князь в мае 1896-го был произведен в генералы от инфантерии и в декабре того же года назначен Главноначальствующим Кавказской администрации и командующим войсками Кавказского военного округа. Уже в чине генерал-адъютанта инициировал принятие закона о конфискации имущества Армянской Апостольской Церкви и закрытии приходских школ.
Подобные действия князя-злопыхателя не могли остаться безнаказанными. Тифлисская организация партии «Гнчак» вынесла ему смертный приговор. Когда слухи об этом дошли до высокородных ушей, князь захандрил, ушел в себя и стал все реже и реже покидать дворец. В случае же крайней необходимости окружал себя плотным кольцом дюжих казаков. Отлично осведомленный о нравственных правилах армян-революционеров, никогда не позволяющих себе применять оружие против женщин и тем более детей, насмерть перепуганный Голицын, выезжая из дворца, всенепременно усаживал жену в карете рядом с собой.
Привести смертный приговор Голицыну в исполнение партия «Гнчак» доверила Парамазу.
В автобиографическом очерке «Последние наместники Кавказа. 1902 – 1917» (Прага, 1928) осетин Николай Бигаев, служивший в конвое Главноначальствующего, рисует картину покушения:
«Мой приезд в Тифлис ознаменовался известным покушением на жизнь Главноначальствующего на Кавказе кн. Голицына.
Насколько я помню, некоторые характерные черты этого покушения остались совершенно неизвестными. О них никто не писал и писать не мог. Поэтому я попытаюсь в общих чертах их восстановить.
Князь Голицын с женою возвращался с обычной прогулки из ботанического сада. На Коджорском шоссе, близ Тифлиса, экипаж Главноначальствующего был остановлен тремя «просителями» с протянутым прошением в руках.
Просители, в скромных крестьянских одеждах, не внушали подозрения. Голицын взял прошение. Тем временем один из нападавших стал перед лошадьми, а двое других заскочили с двух сторон экипажа. Ординарец-казак, сидевший на козлах, и кучер сообразили недоброе. Первый соскочил с козел, но упал, а второй дал кнута.
В этот промежуток времени два ставших у подножек экипажа злоумышленника стали наносить острыми кинжалами раны в голову князя. Голицын и его жена не растерялись. Они палкой и зонтиком ловко отбивали удары. Прежде, чем казак успел оправиться, а кучер дать полный ход, нападавшие успели, однако, нанести тяжелую рану своей жертве в голову.
Нападавшие бросились бежать, а князь, обливаясь кровью, прискакал во дворец. Через час злоумышленники были захвачены стражниками и казаками конвоя, выскочившими по тревоге…
Стражники, захватив злоумышленников живыми, убили их, несмотря на то, что один из них умолял дать ему возможность попрощаться с матерью-старухой.
Молва упорно говорила, что в их задачу входило снять голову с кн. Голицына и водрузить ее на Эриванской площади… После постигшей неудачи в открытом «бою» армяне, как гласила молва, хотели взорвать Тифлисский дворец и таким путем покончить с кн. Голицыным. Инженерному ведомству пришлось устроить кругом дворца подземные ходы и постоянно их наблюдать, чтобы предупредить подвод под дворец мин.
Покушение на жизнь Голицына было вызвано, как известно, «близорукой политикой последнего на Кавказе вообще и в отношении армянского народа в частности и в особенности».
Маниакальные страхи изводили Голицына настолько, что даже шум типографических станков в подвальном этаже его дворца казался ему попыткой заложить мину.
Фидаины под прозвищами Шант, Кайцак и Пайлак, коим Парамаз поручил расправу с Голицыным, во избежание нанесения ран княгине, только и успели что ударить князя несколько раз кинжалом по голове. Шант и Кайцак были зарублены стражниками, Пайлаку же удалось ускользнуть и бежать в Персию. Подлинные имена Шанта и Кайцака остались неизвестными, что до Пайлака, то звали его Мгер Манукян.
В 1906 году, во время армяно-татарских столкновений, Парамаз призвал армян и местных татар-тюрок сложить оружие и перестать истреблять друг друга, разъясняя, что вражда эта на руку лишь царским чиновникам.
После свержения в 1908 году младотурками султана Абдул-Гамида II Парамаз едет в Западную Армению, носясь с идеей единения всех проживающих в Османской империи немусульман. В 1914 году, обвиненный в подстрекательстве к мятежам, мегринец Парамаз, он же Матевос Саркисян-Парамазян, был арестован и предан суду.
Посол Моргентау: «Турецкие власти выносили смертный приговор целой нации»
Дабы придать вакханалии бесчинств цивилизованный вид, младотурки пошли на присущую им хитрость. 26 мая 1915 года (заметьте, повальные аресты с последующей депортацией начались еще 24 апреля) министр внутренних дел Талаат-паша представил меджлису «Закон о депортации» (о борьбе с выступлениями против правительства в военное время). И уже 28 мая турецкий парламент его одобрил и принял. Тогдашний посол США в Османской империи Генри Моргентау позднее напишет:
«Истинной целью депортации было ограбление и уничтожение; это действительно является новым методом резни. Когда турецкие власти отдавали приказ об этих высылках, они фактически выносили смертный приговор целой нации, они это прекрасно понимали и в разговорах со мною не делали особых попыток скрыть этот факт…
Я имел беседу с одним ответственным чиновником-турком, который рассказал мне о применяемых пытках. Он не скрывал, что правительство одобряет их, и, как и все турки из правящего класса, сам горячо одобрял такое обращение с ненавистной ему нацией. Этот чиновник сказал, что все эти подробности пыток обсуждались на ночном заседании в штаб-квартире «Единение и прогресс».
Каждый новый метод причинения боли расценивался как превосходное открытие, и чиновники постоянно ломают головы над тем, чтобы изобрести какую-нибудь новую пытку. Он рассказал мне, что они даже обращались к отчетам испанской инквизиции… и переняли все, что находили там».
Марина и Гамлет Мирзояны . Фото: noev-kovcheg.ru


Вступ. статья, подгот. текста и коммент. З.И. Перегудовой. Т. 1. - М.: Новое литературное обозрение, 2004.

«ОХРАНКА» ГЛАЗАМИ ОХРАННИКОВ
В конце 1870-х годов характерной чертой русской жизни стал терроризм
революционеров-народников, боровшихся с царским правительством. III отделение,
осуществлявшее функции политической полиции, не могло справиться с ними, и было
решено осуществить преобразования в этой сфере.
6 августа 1880 года в России возникло новое учреждение - Департамент
государственной полиции, ставший высшим органом политической полиции в
Российской империи.
Обосновывая свои предложения, министр внутренних дел М.Т. Лорис-Меликов
указывал, что «делопроизводство в оном (Департаменте государственной полиции. -
З.П.) может быть вверено только таким лицам, которые, обладая необходимыми для
службы в высшем правительственном учреждении познаниями и способностями, вполне
заслуживают доверия по своим нравственным качествам, выдержанности характера и
политической благонадежности»1. Старые кадры не подходили как по своим
профессиональным качествам, так и в силу того, что часть их были жандармы, люди
военные. Лорис-Меликов стремился к тому, чтобы новое учреждение состояло из
«законников», лиц гражданских и с юридической подготовкой.
Указом от 15 ноября 1880 года на Департамент государственной полиции было
возложено руководство как политической, так и общей полицией. Согласно ст. 362
«Учреждения Министерства», Департамент обязан был заниматься вопросами:
1) предупреждения и пресечения преступлений и охранения общественной
безопасности и порядка; 2) ведения дел о государственных преступлениях; 3)
организации и наблюдения за деятельностью полицейских учреждений; 4) охранения
государственных границ и пограничных сообщений; выдачи паспортов русским
подданным, видов на жительство в России иностранцам; высылки иностранцев из
России; наблюдения за всеми видами культурно-просветительной деятельности и
утверждения уставов различных обществ2.
Важная роль принадлежала созданному в 1898 году Особому отделу Департамента. Он
заведовал внутренней и заграничной агентурой, вел наблюдение за перепиской
подозрительных лиц, осуществлял надзор за настроениями рабочих, учащейся
молодежи, а также розыск лиц по политическим вопросам и т.д.
Свои основные функции Департамент полиции и его Особый отдел осуществляли через
подведомственные им местные учреждения: губернские жандармские управления (ГЖУ),
областные жандармские управления (ОЖУ), жандармско-полицейские управления
железных дорог (ЖПУ ж.д.), а также розыскные пункты, часть которых впоследствии
была переименована в охранные отделения.
Первые губернские жандармские управления были созданы на основе Положения о
Корпусе жандармов от 16 сентября 1867 года. До середины 1868 года они возникли
практически во всех губерниях. Одновременно в некоторых местностях создаются на
определенный срок и упраздняются по мере надобности жандармские наблюдательные
пункты.
Начальник губернского жандармского управления имел несколько помощников, которые
находились в уездах и возглавляли уездные жандармские управления. Как правило,
один помощник начальника ГЖУ отвечал за несколько уездов.
Основным назначением жандармских управлений был политический розыск,
производство дознаний по государственным преступлениям. Вплоть до 1880-х годов
они оставались единственными учреждениями политического сыска на местах.
Будучи частью государственной полиции, ГЖУ входили в систему Министерства
внутренних дел. Однако, будучи воинским подразделением, они финансировались из
бюджета Военного министерства и по строевой, военной, хозяйственной части
подчинялись ему. ГЖУ были независимы от губернаторов, отвечавших за безопасность
и спокойствие в губернии; такого рода двойственность вносила порой немалые
сложности в их деятельность и отношения с властями.
Департамент полиции осуществлял политическое руководство ГЖУ, но редко имел
возможность влиять на их личный состав; карьера начальников ГЖУ зависела прежде
всего от руководства штаба корпуса жандармов.
С момента создания столичных ГЖУ при них были организованы жандармские
кавалерийские дивизионы. Главным назначением дивизионов было несение патрульной
службы и борьба с волнениями. Численность дивизиона вместе с офицерами и
нестроевым составом практически не превышала 500 человек.
Жандармско-полицейские управления железных дорог возникли в начале 1860-х годов
в результате преобразования жандармских эскадронов и команд, охранявших первые
железные дороги.
Первоначальные ЖПУ железных дорог подчинялись Министерству путей сообщения
(через инспекторов соответствующих дорог) и только в декабре 1866 года все
полицейские управления были изъяты из ведения Министерства путей сообщения и
полностью подчинены шефу жандармов. Права и обязанности ЖПУ железных дорог были
расширены. Они должны были исполнять все обязанности общей полиции, пользуясь и
всеми присвоенными ей правами. Район действия ЖПУ железных дорог простирался на
все пространство, отчужденное под железные дороги, и на все находившиеся на этой
полосе постройки и сооружения.
Во главе ЖПУ железных дорог стояли начальники на правах командиров полков в чине
генерал-майоров или полковников, назначались они приказами по Отдельному корпусу
жандармов. Вплоть до 1906 года они не принимали участия ни в производстве
дознаний по государственным преступлениям, ни в политическом розыске и
наблюдении. Однако активная роль, которую сыграли выступления железнодорожников
в октябрьской стачке 1905 года, заставила правительство принять срочные меры и
возложить на ЖПУ железных дорог обязанности производства дознаний о всех
«преступных действиях» политического характера, совершенных в полосе отчуждения
железных дорог. При производстве дознаний начальники отделений подчинялись
начальникам местных ГЖУ. На железных дорогах был создан также
секретно-агентурный надзор, что обязывало ЖПУ железных дорог иметь собственную
секретную агентуру.
Параллельно со столичными губернскими жандармскими управлениями действовали
охранные отделения, к которым довольно быстро перешли основные функции
политической полиции на местах. Первое охранное отделение, называвшееся
Отделением по охранению порядка и спокойствия в столице, было создано в
1866 году при канцелярии петербургского градоначальника в связи с начавшимися
покушениями на Александра II. Вторым было Московское (Секретно-розыскное
отделение при канцелярии московского обер-полицмейстера), созданное 1 ноября
1880 года по распоряжению министра внутренних дел М.Т. Лорис-Меликова.
Третьим - созданное в 1900 году в Варшаве.
Деятельность первых охранных отделений оказалась, по мнению властей, успешной. В
связи с разраставшимся революционным движением и слабостью губернских
жандармских управлений власти все больше задумываются над тем, как
усовершенствовать политический сыск, сделать его более организованным и гибким.
В городах, где все чаще происходили выступления рабочих и учащейся молодежи, по
инициативе Департамента полиции стали создаваться розыскные пункты (отделения).
С августа 1902 года они открываются в Вильно, Екатеринославе, Казани, Киеве,
Одессе, Саратове, Тифлисе, Харькове, Перми, Симферополе (Таврическое), Нижнем
Новгороде.
Эти учреждения должны были осуществлять политический розыск, вести наружное
наблюдение и руководить секретной агентурой. В Положении о начальниках розыскных
отделений, утвержденном 12 августа 1902 года министром внутренних дел В.К.
Плеве, указывалось, что «на обязанности начальников отделений лежит приобретение
секретных агентов, руководство их деятельностью, а также выбор и обучение
наблюдательных агентов»3. В том же году циркулярно рассылается «Свод правил» для
начальников охранных отделений, в котором говорится, что задачей этих отделений
является розыск по политическим делам, осуществляемый через секретную агентуру и
филерское наблюдение. В обязанности начальников отделений вошла и вербовка
внутренней агентуры. Они должны были хорошо знать историю революционного
движения, следить за революционной литературой, а также по возможности знакомить
с ней своих секретных сотрудников, развивая в последних «сознательное отношение
к делу службы»4. Начальники розыскных и охранных отделений подчинялись
непосредственно Департаменту полиции, который давал общее направление их
деятельности, распоряжался личным составом.
Создание сети новых охранных отделений произошло во многом в результате
инициативы, проявленной начальником Московского охранного отделения, затем
заведующим Особым отделом Департамента полиции С.В. Зубатовым. Однако отставка
осенью 1903 года помешала ему реализовать свои планы в полном объеме.
По мере роста числа охранных отделений возникает и усиливается соперничество
между губернскими жандармскими управлениями и охранными отделениями. В своих
циркулярах Департамент неоднократно призывает их к «взаимопомощи», обмену
сведениями. Во многом эти конфликтные ситуации возникали в связи с тем, что,
хотя функции ГЖУ и охранных отделений были разделены, в действительности
розыскная деятельность (за которую отвечали охранные отделения) и деятельность
наблюдательная, а также проведение дознаний (которыми занимались ГЖУ) тесно
переплетались. На практике отделить одно от другого порой было невозможно. Те
руководители охранных отделений, которые проходили по штабу корпуса жандармов, в
строевом отношении были подчинены начальнику ГЖУ. Последний, как правило, был в
чине полковника или генерал-майора. Но в отношении служебном ему приходилось
порой подчиняться младшему по чину начальнику охранного отделения.
В 1906-1907 годах по инициативе директора Департамента М.И. Трусевича проводится
работа по созданию новых охранных отделений, розыскных частей, расширяется вся
сеть учреждений политического розыска. В декабре 1907 года насчитывалось уже 27
охранных отделений.
9 февраля 1907 года Столыпин утверждает «Положение об охранных отделениях»5. В
Положение вошли и пункты, касающиеся взаимоотношений с ГЖУ, обмена информацией
между охранными отделениями. Жандармские и политические органы, получая
сведения, относящиеся к роду деятельности охранных отделений, должны были
сообщать их охранному отделению для разработки, обысков, выемок и арестов,
которые не могли производиться без ведома начальника охранного отделения. В свою
очередь начальники охранных отделений должны были осведомлять ГЖУ об
обстоятельствах, интересующих последних в процессе производимых ими дознаний.
В 1906-1907 годах возникают охранные пункты. Они организуются прежде всего в
местах, отдаленных от центра, там, где в тот период наблюдался рост «боевых»
настроений среди населения. Первые охранные пункты были учреждены в Хабаровске,
Пензе, Гомеле, Владикавказе, Екатеринодаре, Житомире, Костроме, Полтаве, Курске
и ряде других городов.
Одновременно с работой по созданию охранных пунктов по предложению все того же
Трусевича в системе политического сыска создаются совершенно новые учреждения -
районные охранные отделения. 14 декабря 1906 года Столыпин утверждает
специальное Положение о районных охранных отделениях. Создавались они в «целях
успешной борьбы с революционным движением, выражающимся в целом ряде непрерывно
продолжающихся террористических актов, аграрных беспорядков, усиленной
пропаганды среди крестьян, в войсках и во флоте»6. Положением о районных
охранных отделениях на них возлагалась задача объединения всех функционирующих в
пределах района (охватывающего несколько губерний) органов политического
розыска. Большое внимание придавалось принятию быстрых решений, слаженной
совместной работе охранных отделений и жандармских управлений, «чтобы
деятельность носила более живой и планомерный характер». В одной из записок,
датированной 1913 годом, директор Департамента полиции назвал районные охранные
отделения «филиальным отделением» своего Департамента. Примечательно, что
районные отделения организовывались так, чтобы сфера их деятельности совпадала
(или почти совпадала) с районами действия окружных партийных комитетов РСДРП и
других революционных партий.
Начальники местных охранных отделений непосредственно подчинялись начальнику
районного охранного отделения. Губернские и уездные ЖУ и ЖПУ ж.д. в вопросах
розыска также должны были руководствоваться указаниями начальника районного
охранного отделения.
К числу основных задач районных охранных отделений принадлежали организация
внутренней агентуры для «разработки» всех местных партийных организаций и
руководство деятельностью агентуры и розыска в границах района. С этой целью
начальники районных охранных отделений имели право созывать совещания офицеров,
непосредственно ведущих политический розыск. Они также должны были информировать
высшие розыскные учреждения о положении дел в революционном движении района,
помогать в деле политического розыска соответствующим учреждениям других
районов. Офицеры районных охранных отделений могли пользоваться всеми
следственными и агентурными материалами жандармских управлений и охранных
отделений. В случае необходимости им должны были быть известны и секретные
сотрудники - агенты, находящиеся в ведении того или иного офицера жандармского
управления и охранного отделения.
На первоначальном этапе своей деятельности районные охранные отделения сыграли
немалую роль в разгроме партийных организаций, партийных комитетов, координации
деятельности сыскных служб на местах. Их успехи подняли престиж розыскной
деятельности среди властей, создали иллюзию возможного разгрома революционных
организаций.
Однако возникли и сложности. По мере роста вмешательства районных охранных
отделений в деятельность местных полицейских властей их взаимоотношения с
работниками ГЖУ стали все более осложняться. Не помогали и периодически
издаваемые Департаментом циркуляры с напоминанием о необходимости совместных
усилий в борьбе с силами революции и обязательного взаимного информирования.
Чиновники районных охранных отделений порой не проявляли должного такта в
отношении своих губернских коллег. Жалобы и недовольство часто приводили к
конфликтам и кляузам, которыми приходилось заниматься Департаменту полиции. С
1909 года деятельность районных охранных отделений ослабевает, что было в
значительной мере связано с затишьем в деятельности революционных организаций.
В.Ф. Джунковский, назначенный в январе 1913 года товарищем министра внутренних
дел, заведующим полицией, поднял вопрос о целесообразности существования
охранных отделений. К этому времени Департамент полиции постепенно начал
упразднять охранные отделения в тех местностях, «где в таковых не имелось острой
необходимости за подавлением революционных движений». Часть охранных отделений
была объединена с губернскими жандармскими управлениями. Объединение происходило
в тех губерниях, где начальник ГЖУ был достаточно подготовлен в деле розыска.
Проводя эти мероприятия, Департамент полиции обосновывал их «государственной
пользой», однако, как считали некоторые чины полиции, главная причина была в
том, что Департамент не находил «иного выхода из создавшегося положения», когда
между ГЖУ и охранным отделением начинались явно «ненормальные» отношения. В
своих воспоминаниях В.Ф. Джунковский подробно пишет о своем отношении к охранным
отделениям. «Будучи еще губернатором в Москве, - пишет Джунковский, - я всегда
отрицательно относился к этим, возникшим на моих глазах, районным охранным
отделениям вообще и, в частности, к таковому Московского центрального района,
наблюдая все отрицательные стороны этого новшества. <...> Все эти районные и
самостоятельные охранные отделения были только рассадниками провокации; та
небольшая польза, которую они, быть может, смогли бы принести, совершенно
затушевывалась тем колоссальным вредом, который они сеяли в течение этих
нескольких лет»7.
15 мая 1913 года Джунковский распространил циркуляр, которым «совершенно
секретно», «срочно» начальники Бакинского, Екатеринославского, Киевского,
Нижегородского, Петроковского, Тифлисского, Херсонского и Ярославского ГЖУ,
Донского и Севастопольского областных жандармских управлений извещались о
ликвидации охранных отделений в их губерниях. В циркуляре указывалось: «Обсудив
положение постановки розыска в текущий момент, в связи с проявлениями
революционного движения в Империи и принимая во внимание, что охранные
отделения, кроме учрежденных в законодательном порядке (имеются в виду
Петербургское, Московское, Варшавское. - З.П.), рассматривались как учреждения
временные, я признал целесообразным, в видах достижения единообразия организации
розыскного дела и руководства им, влить и оставшиеся самостоятельные охранные
отделения в составы местных губернских жандармских управлений»8. В скором
времени все охранные отделения (кроме столичных) были ликвидированы, а их
начальники стали руководителями вновь созданных розыскных частей ГЖУ.
Понимая, что принимаемые меры не могут не вызвать недовольства руководителей
упраздняемых охранных отделений, Джунковский в том же циркуляре писал:
«...считаю необходимым указать, что объединение в Вашем лице деятельности обоих
учреждений не должно рассматриваться как унижение служебного достоинства
начальника упраздняемого охранного отделения, ибо установление такого порядка
<...> вызывается не другими какими-либо соображениями, как только интересами
важнейших для чинов Отдельного корпуса жандармов обязанностей, путем улучшения
условий ведения розыскного дела».
Вслед за ликвидацией охранных отделений Джунковский приступает к подготовке мер
по упразднению районных охранных отделений. В 1914 году все районные охранные
отделения, кроме Туркестанского и Восточно-Сибирского, были упразднены.
Остальные действовали до 1917 года. Центральным звеном политического сыска на
местах вновь, как и до 1902 года, стали ГЖУ.
Так было ликвидировано важное звено в структуре политического сыска. Как
показали последующие события, предпринятые Джунковским меры не способствовали ни
укреплению политической полиции, ни оздоровлению обстановки в отношениях между
ее руководящими кадрами.
Выше были упомянуты работы, в которых содержится подробная и разноаспектная
характеристика деятельности политического сыска конца XIX - начала ХХ века.
Однако они дают главным образом внешний, «объективный» взгляд на работу
Департамента полиции и охранных отделений. Но для понимания этих учреждений
весьма важна и субъективная сторона - мотивы и цели деятельности их сотрудников,
специфичность их видения ситуации, их самооценка. Ведь в их службе наряду со
стороной карьерной, меркантильной была и сторона идейная, связанная с пониманием
ими современной политической ситуации и своего долга, своей функции в
государственной и общественной жизни.
Вот, например, «Обзор современных условий служебного положения губернского
жандармского управления и ряд соображений относительно изменения их организации
и порядка деятельности», подготовленный начальником Воронежского ГЖУ Н.В.
Васильевым. Автор критически оценивал состояние политического сыска и его
кадровый состав. Выход из положения он видел, в частности, в объединении Корпуса
жандармов с общей полицией, а также в организации курсов для повышения
квалификации работников сыска.
Перед нами - жандарм-философ. Он пишет: «Убить идею нельзя. Эволюция
человеческой мысли совершается безостановочно, неудержимо трансформируя взгляды,
убеждения, а затем и социальный строй жизни народов. История революционных
движений учит нас, что остановить ход крупных исторических событий невозможно,
как невозможно человеку остановить вращение Земли. Но та же история приводит на
своих страницах слишком полновесные доказательства того, что пионеры революции,
полные энергии и увлечения, всегда бывали утопистами и в своей борьбе с
общественной косностью, в своем стремлении воссоздать новые формы жизни
обыкновенно не только не содействовали прогрессу своей родины, но нередко
служили тормозом правильному ходу развития общественного самосознания. Роль
пионеров в истории осуждена самой историей. Человечеству свойственно
заблуждаться, и передовики-теоретики, как бы ни были, по-видимому, идеальны их
стремления, не были и не будут истинными вождями народа...»
Васильев считал, что система, которая «стойко выдержала борьбу» в течение
полувека, «вряд ли нуждается в коренном преобразовании», но «существующее здание
жандармского надзора следует достроить, приспособить к современным
требованиям»... Но не подвергать «ломке» и «пересозданию»9.
Важным источником сведений по данному вопросу являются воспоминания чиновников
Департамента полиции, жандармерии, лиц, связанных с русским политическим сыском.
Однако подавляющее большинство их выходили в эмиграции, а в России переизданы
лишь немногие10. Данный сборник призван заполнить существующую лакуну. Из
представленных в нем пяти книг четырех авторов лишь одна (А.В. Герасимова)
выходила в России, а книга А.Т. Васильева на русском языке выходит вообще
впервые.
Воспоминания Герасимова, небольшие по объему, впервые были изданы в 1934 году на
немецком и французском языках. Александр Васильевич Герасимов родился 7 ноября
1861 года, получил образование в Харьковском реальном училище, затем закончил
Чугуевское пехотное юнкерское училище по первому разряду. После окончания
училища поступил в 1883 году на военную службу в чине прапорщика, которую
проходил в 61-м Резервном пехотном батальоне. В ноябре 1889 года он перевелся в
Корпус жандармов и прошел путь от поручика до генерал-майора. Первое его место
службы было связано с Самарой, куда он был направлен как адъютант Самарского
губернского жандармского управления. Через два года он продолжил службу в
Харькове, вначале также адъютантом, а потом помощником начальника Харьковского
губернского жандармского управления (с сентября 1894 г.)11.
В переписке Департамента полиции высоко оценивается старание и усердие ротмистра
А.В. Герасимова. В одной из справок о его деятельности говорилось, что Герасимов
«обратил на себя внимание способностями и трудолюбием», в течение трехлетней
службы в ГЖУ «оказал весьма существенные услуги по делам политического розыска».
Герасимова периодически командировали в различные местности для оказания помощи
коллегам, а порой и для проверок, и он всегда «с отличным успехом выполнял
возложенные на него поручения, вполне оправдывая оказанное ему доверие»12.
В 1902 году, когда стали создаваться охранные отделения, Герасимов был назначен
начальником Харьковского охранного отделения. В уже цитированном документе
указывалось, что «с первых шагов своего заведования отделением ротмистр
Герасимов сумел поставить доверенное ему дело на надлежащую высоту, результатом
чего была постоянная успешная деятельность отделения, в район коего, помимо
г. Харькова входили и другие города Харьковской губернии. Кроме того, названный
офицер вполне успешно исполнял возлагавшиеся на него поручения по организации
розыска и наблюдения в других местностях вне района наблюдения»13. В 1903 году
Герасимов «вне правил» был произведен в чин подполковника. В феврале 1905 года
по представлению директора Департамента полиции А.А. Лопухина он занял должность
начальника Петербургского охранного отделения. В послужной характеристике
указывалось, что его назначение состоялось как офицера, отличившегося
«испытанною уже опытностью, глубоким знанием дела и редкой преданностью
служебному долгу...».
В Петербурге он активно берется за дело, наводя порядок в самом охранном
отделении и активно занимаясь борьбой с революционным движением. Генерал-майор
Д.Ф. Трепов, чрезвычайно довольный его действиями, считал, что благодаря его
«исключительно умелой распорядительности и энергии были задержаны <...> все
главные распорядители смуты», обнаружены «мастерские разрывных снарядов,
предупрежден ряд акций», причем «вся работа проводилась при постоянной угрозе со
стороны революционеров».
В июне 1905 года «вне правил» Герасимов получил чин полковника, в 1906 году
орден св. Владимира 3-й степени, на следующий год, в 1907 году, ему присвоен чин
генерал-майора, в 1908-м он удостаивается высочайшей благодарности, а 1 января
1909 года награждается орденом св. Станислава 1-й степени.
Постоянное внимание и благожелательность Трепова, затем Столыпина подогревали
амбиции Герасимова: Петербургское охранное отделение, которое он возглавлял,
было одним из самых крупных в России; он добился самостоятельных докладов
министру (чего ранее не было).
Четыре года длилась его служба на посту начальника Петербургского охранного
отделения. В основном этому периоду и посвящены его воспоминания. В переписке
Департамента полиции и Министерства внутренних дел указывалось, что за эти годы
он подорвал свое здоровье, часто обращался к врачам.
В апреле 1909 года Герасимов переходит в Министерство внутренних дел как генерал
для особых поручений при министре. Он часто ездит в командировки с целью
проверки деятельности учреждений политического сыска и работы отдельных лиц.
Работая в свое время со Столыпиным, Герасимов предполагал получить пост товарища
министра внутренних дел, заведующего полицией. Но после гибели Столыпина и
ухода А.А. Макарова с поста министра внутренних дел оборвалась та нить, которая
крепко связывала его с этим министерством. А назначение В.Ф. Джунковского в
январе 1913 года товарищем министра внутренних дел, заведующим полицией
окончательно разрушило его планы. В министерство пришли новые люди, с которыми
Герасимова практически ничего не связывало. Его служебная карьера закончилась в
начале 1914 года, после того как в декабре 1913 года он подал рапорт об
отставке. При отставке за прежние заслуги ему дали чин генерал-лейтенанта.
Воспоминания Герасимова посвящены почти исключительно борьбе с одним
направлением в революционном движении - террором. Один из лидеров эсеровского
движения В.М. Чернов, ознакомившись с книгой Герасимова, писал: «Лишь после
того, как вышли (на немецком языке) воспоминания генерала Герасимова, нам
окончательно выяснилась общая картина катастрофы, постигшей нашу боевую работу,
как раз в то самое время, когда Бо (боевая организация. - З.П.) по планам партии
должна была довести свои атаки на царский режим до максимальной энергии»14.
Воспоминания Герасимова интересны и тем, что они отразили очень важный момент
жизни эсеровской партии, ее «изнанку» и тот кризис, который она переживала в
связи с предательством Азефа.
Другой автор, воспоминания которого включены в сборник, - Павел Павлович
Заварзин. Находясь в эмиграции, он одним из первых в 1924 году выпустил свои
воспоминания «Работа тайной полиции». Через шесть лет, в 1930 году, он
опубликовал вторую книгу - «Жандармы и революционеры», которая частично
повторяет и частично дополняет первую.
Заварзин родился 13 февраля 1868 года в семье дворян Херсонской губернии. Он
получил общее образование в Одесском реальном училище, затем закончил Одесское
пехотное юнкерское училище по первому разряду. В 1888 году в чине подпоручика он
поступил на службу в 16-й Стрелковый батальон его величества и прослужил там 10
лет. В составе этого батальона он находится в Ливадии в дни кончины Александра
III, охранял гессенскую принцессу Аликс (будущую императрицу Александру
Федоровну) в дни приезда ее в Россию, в Ливадию, за что ему был пожалован
Кавалерийский крест 2-го класса гессенского ордена Филиппа Великодушного.
В мае 1898 года в чине поручика он переходит в Корпус жандармов. Первоначально
Заварзин служит адъютантом в Бессарабском ГЖУ, с августа 1899 года адъютантом в
Таврическом ГЖУ, где получил чин штаб-ротмистра. Через несколько месяцев, в мае
1900 года, его переводят помощником начальника Волочисского отделения Киевского
жандармско-полицейского управления железной дороги. В конце года, в декабре, он
получает чин ротмистра. В июне следующего года его переводят на должность
начальника Лубенского отделения Московского-Киевского жандармско-полицейского
управления, а через два года прикомандировывают к Бессарабскому ГЖУ и назначают
на должность начальника только что созданного Бессарабского охранного отделения.
На следующий год, с июня 1904 года, его переводят на должность помощника
начальника Могилевского ГЖУ в Гомельском уезде. Революционные события 1905 года
в России и драматическая ситуация в Одессе требовали укрепления этого района
опытными кадрами, знакомыми с этим городом и обстановкой. Поэтому Заварзина, не
прослужившего и месяца в его новой должности, переводят в Одессу начальником
охранного отделения, а с 7 июля 1905 года он возглавляет Донское областное
охранное отделение, 11 августа 1906 года его переводят начальником отделения по
охранению общественной безопасности в г. Варшаве15.
Служба в Варшаве продолжалась почти три с половиной года. Это был довольно
сложный период деятельности Заварзина, так как революционные организации в
Варшаве были очень сильны, у них хорошо была поставлена конспирация.
Опираясь на свой уже достаточно большой опыт, Заварзин смог эффективно
использовать работу секретных сотрудников, работавших в Варшавском охранном
отделении. К сожалению, Заварзин очень скупо рассказывает о своей секретной
агентуре, упоминая в основном лишь тех, кто погиб до революции.
Успешное осуществление политического сыска в Кишиневе, Одессе, Ростове-на-Дону и
особенно в Варшаве обеспечило Заварзину репутацию специалиста высокого класса, и
в конце 1909 года он был назначен начальником Московского охранного отделения
(подполковник с 6 декабря 1906 г.)16.
Заварзин явился инициатором создания Инструкции Московского охранного отделения
по организации и ведению внутренней агентуры. В ее основу была положена
секретная Инструкция Департамента полиции, изданная в 1907 году. Причиной,
побудившей его написать «свою» инструкцию, была та, что инструкция Департамента
была издана в ограниченном числе экземпляров и разослана лишь начальникам восьми
районных охранных отделений. Многие начальники ГЖУ ее видели только из рук
руководителей районной охранки. Инструкция была строго засекречена, поскольку
боялись, что она может попасть в руки революционеров, которые раскроют все
«хитрости» «охранки».
Инструкция Московского охранного отделения, подготовленная Заварзиным, была
интересней, написана более доступным языком и давала конкретные советы по
приобретению секретной агентуры, общению и работе с этой агентурой,
конкретизировала различные категории секретных сотрудников: вспомогательных
агентов, штучников и т.д.17 Однако текст ее не был согласован с Департаментом
полиции. И когда в начале 1911 года через министра внутренних дел инструкция
попала к начальнику Особого отдела Департамента полиции А.М. Еремину, который
был одним из разработчиков инструкции Департамента полиции, она привела его в
негодование. Возмутился и директор Департамента18.
Нормальные, и даже порой дружеские отношения Заварзина с московскими властями
резко контрастировали со становившимися все более напряженными отношениями с
Департаментом полиции. В июле 1912 года Заварзина перевели в Одессу начальником
жандармского управления. Это не считалось понижением по службе, но в
действительности означало, что пик карьеры остался позади.
Характеризуя Заварзина, Мартынов пишет в публикуемых в данном сборнике
воспоминаниях: «Надо сказать, что полковник Заварзин, несмотря на всю
примитивность своей натуры, недостаточное общее развитие, на, так сказать, “малокультурность”,
все же после четырнадцатилетней службы в жандармском корпусе обладал практикой
розыскного дела». Отдавая должное его профессионализму, Мартынов в то же время
считает, что он был смещен с должности начальника Московского охранного
отделения не только за упущения по проведению в жизнь мероприятий Департамента
полиции, но просто по несоответствию этой сложной должности.
Однако не во всем можно согласиться с Мартыновым. Заварзин действительно звезд с
неба не хватал, но он был трудолюбив и исполнителен, не конфликтовал с
коллегами, знал свое дело и оставил свое отделение Мартынову в отличном
состоянии.
2 июня 1914 года семья Николая II возвращалась из Румынии через Одессу. Эта
поездка царской семьи была запланирована как тайные смотрины наследника
румынского престола. Ходили слухи, что его прочат в мужья старшей великой княжне
Ольге Николаевне. Княжне ничего не говорили об этом, но принц явно не произвел
впечатления не только на Ольгу Николаевну, но и на всю семью.
Встреча императора в Одессе была организована четко. «За отличный порядок в
Одессе во время пребывания Его Императорского величества Николая II и
августейшей семьи» Заварзину было объявлено «Высочайшее благоволение»19.
3 июня 1916 года Заварзин был назначен начальником Варшавского губернского
жандармского управления. Однако, в связи с войной и эвакуацией Варшавского ГЖУ,
он переехал в Петроград. Там он временно прикомандировывается к Петроградскому
ГЖУ и поступает в распоряжение Министерства внутренних дел. Периодически
министерство и Департамент полиции посылают его в командировки по России.
События февраля 1917 года застали его в Петрограде. Как и большинство высших
петербургских чиновников, Заварзин был арестован в первые дни Февральской
революции Чрезвычайной следственной комиссией для расследования действий бывших
министров и прочих должностных лиц. Немногим более месяца он находился в
заключении и вскоре смог уехать из России.
Наиболее подробные воспоминания («Моя служба в Отдельном корпусе жандармов»)
оставил самый молодой представитель этой жандармской когорты - полковник А.П.
Мартынов. Они были написаны позднее, чем это сделали его коллеги; работал автор
над ними с перерывами пять лет (1933-1938). Поэтому, может быть, они более
продуманны, а порой более откровенны в оценках, симпатиях и антипатиях.
Опубликованы они были в 1972 году в США уже после его смерти.
Мартынов родился 14 августа 1875 года в Москве в дворянской семье. Получил
образование в 3-м Московском кадетском корпусе, затем закончил 3-е
Александровское училище по первому разряду. Служил во 2-м Софийском пехотном
полку, потом в 7-м Гренадерском Самогитском полку. В это время его старший брат
Николай уже служил в Корпусе жандармов, и постоянным желанием автора
воспоминаний было также определиться в Корпус жандармов, куда он и был принят в
мае 1899 года.
Весь его жизненный путь до Октябрьской революции - служба в ГЖУ и охранных
отделениях - прослеживается по его воспоминаниям. Поэтому ограничимся лишь
краткими сведениями о нем. Сразу после поступления в Корпус он был определен
младшим офицером в Московский жандармский дивизион. После прохождения курсов
штаба Корпуса жандармов служил адъютантом в Петербургском ГЖУ, в январе 1903
года переведен помощником начальника Петроковского ГЖУ, в феврале 1903-го
вернулся в Петербургское ГЖУ; самостоятельную работу начал в Саратовском
охранном отделении, куда был направлен в июле 1906 года начальником отделения.
После шести лет пребывания на этой должности его переводят (12 июля 1912 г.) в
Москву начальником Московского охранного отделения.
Давая общую оценку работы и деловых качеств Мартынова и ходатайствуя в мае 1916
года о награждении его орденом князя Владимира 4-й степени «вне всяких правил»,
московский градоначальник генерал-майор В.Н. Шебеко писал: «Из первых докладов,
сделанных мне лично полковником Мартыновым о той активной деятельности, которую
чины Отделения проявили и проявляют в деле борьбы с анархией, - я убедился в
личных недюжинных способностях и энергии означенного штаб-офицера, который
постоянно неутомимо лично руководит всеми делами политического розыска в таком
трудном пункте, как город Москва, поддержание порядка в котором отражается на
деятельности революционных организаций всей Империи <...> чины Отделения,
несмотря на подавляющую массу занятий, особенно увеличившихся вследствие
переживаемых родиной обстоятельств, работают охотно с отменным усердием -
благодаря умению полковника Мартынова поселить в среде своих подчиненных дух
стремления к честному выполнению служебных обязанностей. <...> Систематическая и
упорная работа полковника Мартынова в деле борьбы с революционными деятелями при
несомненной наличности выдающихся способностей к розыску и при большой
трудоспособности имели своим последствием полную дезорганизацию московских
подпольных организаций этих деятелей»20.
В первый же день волнений в Петрограде (а они сразу стали известны в Москве)
Мартынов 28 февраля обратился в счетное отделение казначейства Московского
градоначальства с просьбой выдать 10 000 рублей на расходы по охранному
отделению. Деньги были розданы служащим отделения в качестве аванса за март
месяц. В 1918 году его привлекли к уголовной ответственности за этот поступок и
обвинили «в растрате и присвоении вверенных ему по должности казенных денег». Но
все свидетели подтвердили получение денег, что было доказано и финансовой
документацией. Себе же Мартынов оставил 1000 рублей, «удержав их также за счет
содержания своего за март месяц». Его оправдали. В своем заключении от 11 мая
1918 года, подписанном Е.Ф. Розмирович и Н.В. Крыленко, было сказано: «По
обстоятельствам того времени» это вызывалось «простой житейской необходимостью,
ввиду особого служебного положения чинов охранного отделения» и необходимостью
«обеспечить их существование в ближайшее время»21.
Через несколько дней после восстания в Петрограде начались волнения в Москве. 1
марта 1917 года ворвавшаяся в помещение охранного отделения и квартиру
Мартынова, находившуюся в этом же здании, толпа ломала шкафы, картотеки,
выбрасывала на улицу документы и разжигала костры. Горели дела, альбомы,
каталоги, фотографии22. Судя по докладной записке Мартынова от 13 марта 1917
года, его в это время в городе не было, но некоторые считают, что он был в
Москве и даже принимал участие в этой акции. Во всяком случае, при погроме
чувствовалась «своя» рука. Материалы всех подразделений Московского охранного
отделения практически не были тронуты, кроме одного - агентурного отдела, где
хранились материалы агентурных сводок, картотека агентурного отдела, по которой
можно было выявить секретных сотрудников Московского охранного отделения.
Кое-какие фотографии и документы уже потом были взяты из стола начальника
«охранки».
В первые дни марта новая власть разыскивала Мартынова, но, как он потом писал,
ему было сложно вернуться обратно в Москву. По возвращении он написал рапорт,
поданный комиссару Москвы 13 марта 1917 года. Рапорт интересен не только с точки
зрения чисто служебных отношений, но и как документ, содержащий политическую
оценку происходившего. Считая обстановку сложной и особенно сложной для бывшего
начальника охранного отделения, он пишет: «Прежде всего считаю долгом заявить о
моем полном подчинении настоящему правительству и что никаких мер или действий,
могущих нанести ему какой-либо вред, я не предпринимал и никогда не предприму,
с самого начала принятия им власти, прекратив всякую работу вверенного мне
отделения. <...> Должен также доложить, что с последних дней февраля с.г., когда
в градоначальстве не было получено никаких инструкций из Петрограда, но было
определенно известно, что Временное правительство взяло в свои руки управление
страной - всякое противодействие ему только осложняло положение, поэтому я
распорядился по Отделению, чтобы никаких арестов не производили, чтобы те
арестованные, которые числились содержанием под стражей за градоначальником,
были бы освобождены. <...> Глубоко убежден, что ни один из моих подчиненных, как
из офицерского состава, так чиновников и низших служащих, и не стал бы принимать
никаких мер, ведущих к вреду для Временного правительства, так как было
совершенно ясно, что идти против общего желания бессмысленно, вредно и могло бы
создать только крайне нежелательные осложнения, особенно в то тяжелое время,
которое мы все переживаем. Невероятное ослепление, в котором находилась старая
власть, не умевшая слушать тех предостерегающих докладов, которые ей
неоднократно делали, указывавших и на падение престижа династии, и на всеобщее
негодование, ставило в невозможное положение службу при этом режиме»23. Стоит
отметить, что доклады Мартынова внимательно прочитывались непосредственным
руководством, но многие материалы подобного рода складывались министром
внутренних дел Протопоповым «под сукно».
Далее в рапорте Мартынов говорит о своем желании и желании своих подчиненных
уйти на фронт - «вступить на общем основании в действующую армию и своей службой
и в ее рядах и кровно быть действительными защитниками родины и верными слугами
Временного правительства»24.
В начале апреля 1917 года А.П. Мартынов был арестован. Первоначально он
содержался на дворцовой гауптвахте в Кремле, в июне был переведен в Московскую
губернскую тюрьму. Его допрашивали в Комиссии по обеспечению нового строя.
Вопросы касались его непосредственной службы по политическому сыску и
руководству им и секретной агентуры. Свои показания Мартынов оформил в виде
«Записки об организации системы политического сыска». На вопрос о конкретных
секретных сотрудниках, и в частности, о наличии в Московском охранном отделении
агентуры среди военных, Мартынов отвечал устно. «Насколько я помню, - говорил
он, - в Саратовском охранном отделении сыщиков военной агентуры не было, равно
как и не было ее при мне и в Московском охранном отделении. По поводу
представленного мне списка (Мартынову был предъявлен список вспомогательных
агентов МОО, датированный 1911 г. - З.П.) я ничего не могу сказать, тогда я не
служил. От Заварзина военной агентуры я не принял и сам таковую не заводил,
относясь лично к этому отрицательно, считая, что политический розыск из военной
среды бесполезен и может быть доставлен при нужде со стороны»25. Стоит отметить,
что отрицательное отношение Мартынова к учреждению секретной агентуры среди
военных совпало с позицией бывшего товарища министра внутренних дел В.Ф.
Джунковского, который так же резко отрицательно выступал против наличия агентуры
в армии и своим распоряжением упразднил ее26. Однако если Мартынов считал
заведение агентуры в армии делом бесполезным, то Джунковский свое решение
мотивировал этическими соображениями, считая доносительство на коллег и
начальство в военной среде явлением аморальным.
Одной из основных задач Комиссии по обеспечению нового строя, которая
допрашивала Мартынова, было выявление секретной агентуры Московского охранного
отделения. Материалы агентурного отдела были практически уничтожены пожаром,
поэтому списки секретных сотрудников составлялись по косвенным данным, а затем
уточнялись, многое было восстановлено по материалам Департамента полиции, на
допросах офицеров «охранки». Судя по ответам Мартынова, он не скрывал имен тех
агентов, с которыми работал, давал сведения о внешности некоторых сотрудников,
их деловых качествах. Судя по протоколам, он стремился оставить впечатление о
себе как о специалисте, знания которого еще могут быть полезными новым властям.
Обстоятельства для него складывались благоприятно, в том числе и после
Октябрьской революции. В ноябре 1917 года появилась возможность освободиться под
залог. Его жена Евгения Николаевна внесла в Московское казначейство залог в
5000 рублей, и судебный следователь по особо важным делам Московского окружного
суда Д.П. Евневич подписал постановление об освобождении Мартынова из тюрьмы.
Еще раньше был освобожден сын Александр, арестованный вместе с ним.
Ему, однако, было ясно, что оставаться в России нельзя.
Весной 1918 года Мартынову вместе с семьей удалось бежать на юг. Он вступил в
Белую армию, служил в контрразведке на Черноморском флоте, затем из Крыма выехал
в Константинополь. Вместе с бывшим начальником Московского сыскного отделения
А.Ф. Кошко организовал в Константинополе частное детективное бюро.
В 1923 году Мартынов с семьей переехал в США, где некоторое время работал в
Нью-Йорке по охране банков, контор и т.д. В 1951 году он переехал в Калифорнию и
вскоре умер в Лос-Анджелесе.
«Охрана - русская тайная полиция» - такое название дал своим воспоминаниям
последний директор Департамента полиции А.Т. Васильев. Слово «охрана» в этих
воспоминаниях имело довольно емкий смысл и обозначало как политическую полицию в
целом, так и ее составные части: руководящий орган - Департамент полиции,
губернские жандармские управления и охранные отделения. «Охрана» - это
практически синоним слова «охранка», которое в то время было широко
распространено.
Васильев, единственный из представленных в книге мемуаристов, не был военным и
не принадлежал к Корпусу жандармов. Однако по своим служебным обязанностям он
должен был бороться с силами оппозиции, как и жандармы.
Должность директора Департамента полиции была пиком служебной карьеры Васильева.
В перспективе он должен был стать товарищем министра внутренних дел, но к
Февральской революции 1917 года успел стать лишь исполняющим обязанности
товарища министра. Из всех четырех мемуаристов Васильев занимал самый высокий
пост, находился в центре событий, но оказался менее прозорливым, чем его
сослуживцы. Свидетельством этого могут быть слова, сказанные Васильевым на
аудиенции у императрицы Александры Федоровны в октябре 1916 года при назначении
его на пост директора Департамента. На вопрос императрицы о волнениях он
ответил, что «революция совершенно невозможна в России. Конечно, есть среди
населения определенное нервное напряжение из-за продолжающейся войны и тяжелого
бремени, которое она вызвала, но народ доверяет царю и не думает о восстании», и
далее добавил, что любые выступления будут быстро подавлены.
А.Т. Васильев родился в 1869 году в Киеве. Там же в 1891 году окончил
юридический факультет университета Св. Владимира и поступил на государственную
службу в прокуратуру по Киевскому судебному округу. В 1894 году он был назначен
судебным следователем в г. Каменец-Подольск, а через год перешел на должность
товарища прокурора Луцкого окружного суда. В этой должности Васильев работал
потом в Киеве (1901-1904), затем был переведен в Петербург. В первые годы своей
службы в прокуратуре Васильев занимался в основном уголовными делами, а в
Петербурге работал в тесном контакте с Петербургским ГЖУ, вел наблюдение за
производством дознаний по делам политическим.
В 1906 году Васильев перешел из ведомства Министерства юстиции в Министерство
внутренних дел; он служил в Департаменте полиции чиновником особых поручений
5-го класса. В связи с тем, что в этот период возникли сложности в подборе
руководителей самого ответственного подразделения Департамента полиции - Особого
отдела, он несколько месяцев заведовал этим отделом. Одновременно по
распоряжению товарища министра внутренних дел П.Г. Курлова и министра внутренних
дел П.А. Столыпина он проводил инспектирование ряда охранных отделений,
учреждений политического сыска.
Занимая должность чиновника особых поручений, он курировал работу Особого
отдела, порой исполняя обязанности вице-директора Департамента полиции. В
Департаменте Васильев проработал два года и вернулся в прокуратуру. В 1908 году
он был назначен в Петербургскую судебную палату, с 1909-го занимал прежнюю
должность товарища прокурора Санкт-Петербургского окружного суда. Через четыре
года Васильев возвращается в Департамент полиции на прежнюю должность чиновника
особых поручений, но уже 4-го класса и исполняет обязанности вице-директора
Департамента полиции по политической части.
Во многом этому возвращению способствовал новый товарищ министра внутренних дел
В.Ф. Джунковский. В своих воспоминаниях он писал: «...я пригласил исправляющим
должность вице-директора по заведованию особым отделом Департамента товарища
прокурора статского советника Васильева. Я его не знал, но мне рекомендовали его
как благородного и честного человека, а кроме того, меня прельстило то, что он
одно время служил уже в Департаменте по политической части, следовательно, был
знаком с механизмом этого дела». Далее Джунковский, правда, дополняет эту
характеристику отнюдь не лестными словами: «Потом мне пришлось весьма раскаяться
в этом назначении, сознать свою ошибку, слишком я поторопился. Васильев оказался
ленивым и мало способным к своей должности и не был чужд отрицательных приемов
охраны, хотя это был человек вполне порядочный»27.
3 ноября 1915 года Васильев был назначен членом Совета Главного управления по
делам печати. Но расстался Васильев с Департаментом всего на год. Новый министр
внутренних дел А.Д. Протопопов питал дружеское расположение к нему и вскоре
после своего назначения пригласил занять пост директора Департамента.
28 сентября 1916 года последовал высочайший именной указ о назначении Васильева.
Это назначение было неожиданным для многих и, судя по свидетельству Васильева,
для него самого. В интервью с журналистами сразу после назначения он сказал:
«Почти всю свою службу я провел в прокуратуре, право и закон являются
единственными руководящими началами. Эти начала, которые я стремился
осуществлять в течение всей предшествовавшей моей службы, я намерен положить в
основание настоящей моей деятельности на посту директора Департамента
полиции. - Во всех частных отдельных случаях я буду с полным благожелательством
относиться к интересам населения, но, конечно, в тех пределах, в которых это
позволит соблюдение государственной пользы. Никакой предвзятости,
тенденциозности у меня нет. На первом плане должно стоять соблюдение высших
государственных интересов и пользы многомиллионного населения Империи».
Судя по отзывам хорошо знавших его людей, Васильев был человеком
благожелательным, опытным юристом, любил консультировать, «натаскивать» своих
коллег. Но в сложных ситуациях на себя многого не брал. В этом плане характерно
его интервью, данное корреспонденту газеты «Колокол» по поводу его планов: «У
меня, директора Департамента полиции, особой программы нет. Вся деятельность
подведомственного мне Департамента сводится к исполнению распоряжений свыше. У
министра, в ведении которого Департамент находится, есть своя программа, и этой
программы должен придерживаться и я...»28
В своих письменных объяснениях, данных Чрезвычайной следственной комиссии, он
выразил свое отношение к работе более определенно: «Я всегда считал, что
Департамент полиции не должен играть какой-либо самостоятельной роли, а должен
служить центром, где сосредоточиваются те или иные сведения, по существу коих
должен так или иначе оперировать лишь министр внутренних дел. Вот почему я
обещал последнему при вступлении в должность: трудолюбие, правдивость и полное
отсутствие каких-либо дел, которые проделывались бы без его, министра, ведома.
Я держался того убеждения, что я являюсь одним из многих директоров центральных
учреждений, что никаких особых преимуществ мне не присвоено и что какую-либо
особую политикою я заниматься не буду, да и не могу, так как не склонен к этому
по складу своего характера. Полагал я, что буду лишь начальником учреждения,
коему я постараюсь привить порядочные начала, и что если такие мои намерения не
будут соответствовать видам и желаниям начальства, то я уйду с должности без
всякого сожаления»29.
Такой взгляд на свои обязанности многое объясняет в деятельности самого
Васильева и подведомственного ему учреждения в месяцы, предшествовавшие
революции.
Эти высказывания звучат тем более неожиданно, что министром внутренних дел в
этот период был Протопопов - лицо, не искушенное в делах Департамента полиции и
в организации системы политического сыска. Историк П. Щеголев писал, что
Васильев выступал вторым лицом, подыгрывал своему министру и, по-видимому,
оказывал ему помощь в использовании Департамента полиции в личных целях. Послать
агента для разведывания, что говорят о министре в правительственных кругах,
перлюстрировать письма лиц, интересующих министра, - вот повседневная работа
директора Департамента полиции при Протопопове30.
Эта характеристика подтверждается высказыванием С.П. Белецкого, бывшего
директора Департамента полиции, затем товарища министра внутренних дел. В своих
показаниях, данных Чрезвычайной следственной комиссии, он писал, что Протопопов
сблизился с Васильевым благодаря Курлову и Бадмаеву. «В Васильеве <...>
Протопопов, как он мне лично передавал, ценил главным образом исключительную
преданность его личным интересам, в жертву которых Васильев в последнее время
принес даже свои старые дружеские связи с П.Г. Курловым»31.
Ходили слухи, что другие товарищи министра не пожелали брать на себя
ответственность - заведование полицией32. В данном случае, очевидно, Протопопов
и не хотел иметь какую-либо фигуру между собой и Васильевым, предпочитая
непосредственный контакт.
В октябре 1916 года газеты сообщали о перераспределении полномочий между
министром внутренних дел и директором Департамента полиции. Если ранее директор
Департамента был подчинен товарищу министра внутренних дел, который заведовал
Департаментом полиции, то теперь - непосредственно министру внутренних дел.
Кроме того, «по особому докладу предполагалось предоставить Васильеву права
товарища министра»33. И действительно, вскоре было опубликовано высочайшее
повеление по данному вопросу: «25 ноября 1916 г. Его Императорское Величество
Всемилостивейше повелеть соизволил возложить исполнение обязанностей товарища
министра внутренних дел по заведованию департаментом полиции на директора
департамента действительного статского советника Васильева, с предоставлением
ему права присутствовать за министра в правительствующем сенате и высших
государственных установлениях, а равно права подписывать бумаги по сему
департаменту и решать текущие доклады сметного и распорядительного характера
Департамента полиции»34.
Февральская революция преподнесла много неожиданностей Васильеву. В первых
числах марта он явился с письмом к М.В. Родзянко в Государственную думу, в
котором писал: «Считаю своим долгом довести до сведения Вашего, что только
сегодня, оправившись после перенесенных событий, я приеду в Государственную
Думу, чтобы передать себя в распоряжение Временного исполнительного комитета
Государственной Думы». В тот же день вместе с письмом он был арестован и
доставлен в Таврический дворец35.
Впоследствии Васильев содержался в Трубецком бастионе Петропавловской крепости.
5 сентября в связи с «болезненным состоянием» был переведен в хирургическое
отделение Петроградской одиночной тюрьмы, а в октябре был выпущен под залог36.
Впоследствии ему вместе с женой удалось выехать за рубеж.
Воспоминания Васильева были написаны во Франции. Последние годы жизни он провел
в «Русском доме» в Сен-Женевьев-де-Буа, где нашли пристанище малоимущие русские
эмигранты Парижа.
Он умер в 1930 году, в год издания своих воспоминаний в Лондоне на английском
языке. Книга была написана по-русски, затем переведена на английский. К
сожалению, русский оригинал найти не удалось, поэтому книга публикуется в
обратном переводе. Очевидно, специфика книги была сложна для английского
переводчика, который не был достаточно силен в российских терминах, касающихся
полиции, и, может быть, не знал всех нюансов и сложностей работы российской
спецслужбы.
Включенные в книгу воспоминания четырех представителей политической полиции
царской России последних лет ее существования не равноценны по своему содержанию
и объему, в каких-то деталях они дополняют друг друга, в каких-то демонстрируют
разную оценку одних и тех же событий. Без всякого сомнения, подобный «разнобой»
позволяет глубже ощутить сложности и противоречия, включая и противоречия
личного порядка, которые налагали существенный отпечаток на характер и
деятельность сыскных служб.
Все четыре автора говорят об одних и тех же событиях, делах и людях: о методах
работы политической полиции, об отношении к провокации и что они считают
провокацией, об Азефе, Распутине, убийстве Карпова, убийстве Распутина. Но
каждый из них вносит свое видение событий, дополнительные нюансы, свое отношение
к лицам и фактам. В результате читатель получает многомерную, объемную картину
происшедшего.
Рисуя без прикрас и со знанием дела картину местного политического сыска России,
авторы дают возможность читателю увидеть реальных людей и реальные учреждения
этого сыска, а заодно и отбросить примитивные штампы, которые навязывались ему в
недалеком прошлом.
Благодарю О.В. Будницкого, Д.И. Зубарева, Г.С. Кана, К.Н. Морозова, Г.А. Смолицкого, А.В. Шмелева, М. Шрубу за справки и консультации, а профессора Чикагского университета Дж. Дейли за копии вышедших за рубежом книг, использованные при подготовке данного издания.
З. Перегудова
Здесь читайте:
Заварзин П.П. Жандармы и революционеры . В кн.: "Охранка". Воспоминания руководителей политического сыска. Тома 2, М., Новое литературное обозрение, 2004.
.