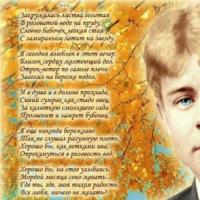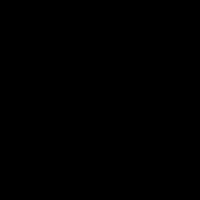Развитие личности в культурно исторической психологии. Культурно-историческая психология Л.С. Выготского. Текст научной работы на тему «Культурно-историческая психология - «Наука о свободе»»
По мнению Л. С. Выготского – автора культурно-исторической теории, усвоение общественного опыта не только изменяет сущность психического развития, но и способствует возникновению новых форм психических процессов, которые становятся высшими психическими функциями, отличающими человека от животных. Конкретные формы общественно-исторической деятельности являются доминирующим в научном понимании формирования психических функций, естественные законы функционирования головного мозга приобретают новые свойства при вхождении в систему общественно-исторических отношений. По Л. С. Выготскому, среда является источником развития высших психических функций. Отношение к среде изменяется по мере взросления, а следовательно, изменяется и роль окружающей среды в развитии психики. Влияние окружающей среды следует рассматривать не абсолютно, а относительно, так как оно обусловлено переживаниями ребенка. У человека отсутствуют только врожденные формы поведения в среде. Психическое развитие происходит в процессе присвоения исторически выработанных форм и способов деятельности. Важнейшими условиями психического развития являются морфофизиологические особенности мозга и общение, а движущей силой развития психики является обучение.
Основные положения культурно-исторической теории Л. С. Выготского можно представить следующим образом.
- 1. В процессе культурно-исторического развития человек создал большое количество различных орудий и знаковых систем, наиболее важными из которых являются орудия труда, язык и системы счисления, и научился пользоваться ими. Люди на протяжении исторического периода существования создали два типа орудий. С помощью одних они смогли воздействовать на природу (орудия труда), с помощью других – на себя (знаковые системы).
- 2. Благодаря использованию орудий труда и знаковых систем, особенно письменности, у человека перестроились все психические функции (восприятие, внимание, память, мышление и др.). Начался переход от непосредственных к опосредствованным психическим функциям, где средством управления ими становятся орудия и знаки. В результате этого перестраивается вся психическая деятельность человека, поднимаясь на более высокий уровень по сравнению с животными.
- 3. Обучение представляет собой передачу ребенку опыта использования орудий и знаков для управления своим поведением (деятельностью) и психическими процессами (письмо как средство повышения продуктивности памяти, указательный жест и слово как способы управления восприятием и вниманием).
- 4. Психологический склад современного культурного и образованного человека является результатом взаимодействия двух взаимосвязанных процессов – биологического созревания и научения. Оба процесса начинаются сразу после рождения ребенка и практически соединены в одной линии развития.
- 5. Каждая психическая функция в своем развитии имеет две формы – врожденную и приобретенную. Первая обусловлена биологическими факторами, а вторая характеризуется культурно-исторической обусловленностью и является опосредствованной, связанной с использованием орудий и знаков как средствами управления ею.
- 6. Первоначально способ использования знаков и орудий показывает ребенку взрослый в процессе общения и совместной деятельности. Сначала орудия и знаки являются средством управления поведением других людей, в дальнейшем они преобразуются в средства управления самим собой. Это осуществляется в процессе интериоризации, т.е. преобразования межличностной функции управления во внутриличиостную.
С позиции культурно-исторической концепции Л. С. Выготского главная закономерность психического развития заключается в интериоризации ребенком структуры его внешней деятельности со взрослыми, которая опосредуется знаками. В результате первоначальная структура психических функций как "натуральных" преобразуется – опосредуется интериоризированными знаками и символами, психические функции постепенно становятся культурно обусловленными. Внешне это выражается в приобретении ими осознанности и произвольности. В процессе интериоризации внешняя деятельность трансформируется и "сворачивается", в последующем она преобразуется и разворачивается в процессе экстериоризации, когда на основе внутриличностной функции выстраивается внешний план деятельности. Л. С. Выготский сформулировал закон развития высших психических функций, согласно которому каждая психическая функция в культурном развитии ребенка проявляется в двух планах: сперва – в социальном, между людьми (интерпсихически), затем – в психологическом, внутри ребенка (интрапсихически).
Практический пример
Максим (4 года) находится в ситуации практического затруднения: он хочет достать мячик, закатившийся под диван. Ребенок тянется, вздыхает, говорит себе чуть слышно: "Не могу, не могу. Ты достань, ты можешь... у меня рука маленькая..., а у мамы большая, она большая, она все может..., а я могу самолет сделать..., а я могу самолет сделать и трактор". Речь Максима в данном случае – эгоцентрическая речь, т.е. адресованная самому себе. На предыдущих этапах развития ребенок использовал только внешнюю форму речи – как средство общения со взрослыми и сверстниками. Вскоре эгоцентрическая речь Максима перейдет во внутренний план (в интрапсихическую форму), с помощью речи он будет способен думать про себя. Этот процесс – интериоризации.
Л. С. Выготский указывал, что процесс психического развития заключается в перестройке системной структуры сознания, которая детерминирована преобразованием его смысловой структуры, т.е. уровнем развития обобщений. Вход в сознание возможен благодаря речевой деятельности, и переход от одной структуры сознания к другой происходит посредством развития значения слова, обобщения. Обучение не оказывает прямого воздействия на системное развитие сознания, но оказывает существенное непосредственное влияние на развитие обобщения, смысловой структуры сознания. Обучение изменяет всю систему сознания путем формирования обобщений, способствуя его переходу на более высокий уровень. Создавая свою концепцию, Л. С. Выготский прежде всего имел в виду процесс развития познавательных процессов человека – восприятия, внимания, памяти, мышления и воображения. Но основные положения данной теории можно применить и к личностному развитию ребенка.
В центре внимания деятельностного подхода находится принцип единства деятельности и сознания, разрабатывается категория деятельности, которая рассматривается как предмет исследования, объяснительный принцип, условие возникновения, детерминанта развития и объект приложения психики, форма активности сознания и как средство регуляции поведения человека. Предметность есть неотъемлемая характеристика деятельности. Предмет деятельности и есть ее действительный мотив. Без мотива деятельности не бывает. Структура деятельности включает в себя следующие уровни: деятельность – действие – операция, которые соотносятся с психологическим рядом мотив – цель – задача. Данные уровни структуры деятельности не являются жестко фиксированными и неизменными. В процессе самой деятельности появляются новые мотивы и цели, под влиянием которых действие может преобразоваться в деятельность или операцию, и таким образом осуществляется развитие деятельности. К представителям деятельностного подхода в отечественной психологии относят А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Б. Г. Ананьева, Д. Б. Эльконина и др.
Алексей Николаевич Леонтьев (1903-1979) называет деятельностью только такие процессы, которые выражают какое-либо отношение человека к окружающему миру, отвечают определенной потребности. А. Н. Леонтьев отмечает зависимость развития функций от конкретного процесса, в который они включены. В то же время развитие психических функций способствует более совершенному осуществлению определенной деятельности; любое сознательное действие формируется в образовавшемся круге отношений, в рамках той или иной деятельности, которая и обусловливает психологические особенности.
Практический пример
Изучение учеником биологии не является деятельностью, если мотивом такого изучения является только желание сдать экзамен. Изучение биологии будет деятельностью только при условии, если ученик хочет познать саму биологическую науку как таковую.
Ведущей деятельностью А. Н. Леонтьев называет деятельность, характеризующуюся следующими тремя признаками:
- во-первых, это деятельность, в рамках которой возникают и дифференцируются другие, новые виды деятельности;
- во-вторых, это деятельность, в рамках которой происходит формирование и преобразование психических процессов (мышление, восприятие, память и т.д.);
- в-третьих, это деятельность, которая в наибольшей степени обеспечивает формирование основных психологических новообразований в структуре психики ребенка.
Механизмом смены ведущей деятельности у ребенка при переходе с одного возрастного этапа на другой является сдвиг мотива на цель. В основе этого механизма лежат реально действующие и осознаваемые мотивы, которые при определенных условиях становятся действенными мотивами. Именно таким образом появляются новые мотивы, а следовательно, и новые виды деятельности. При некоторых условиях результат действия оказывается более значимым и важным, чем мотив, который побудил это действие. При смене ведущей деятельности осознаваемые мотивы находятся не в сфере фактических отношений, в которые включен ребенок, а в сфере потенциальных отношений, в которые ребенок сможет включиться на следующем, более высоком уровне развития. Подготовка к таким переходам осуществляется постепенно и длительно, поскольку они являются более сложными, чем смена видов деятельности.
В рамках деятельностного подхода сознание и деятельность рассматривают в единстве. Сергей Леонидович Рубинштейн (1889-1960) впервые выдвинул положение о единстве сознания и деятельности. Он отмечал, что деятельность и сознание образуют органическое целое, но не тождество. Это положение имеет важное методологическое значение, поскольку им утверждалась возможность через деятельность ребенка изучать его психологические особенности и открывались пути для объективного исследования психики и сознания детей: от деятельности, ее продуктов – к выявляющимся в ней психическим процессам. Кроме этого важного принципа С. Л. Рубинштейн сформулировал важное для детской психологии положение о том, что ребенок не сначала развивается и затем воспитывается и обучается; он развивается, обучаясь, и обучается, развиваясь.
Борис Герасимович Ананьев (1907-1972) называет лишь два вида деятельности – познание и общение, имеющие наиболее важное значение для психического развития человека на всех возрастных этапах. Познание является основной формой деятельности человека, поскольку оно есть всемирно-исторический процесс целенаправленного и обобщенного отражения человеком объективных законов окружающей действительности и самого сознания. Б. Г. Ананьев утверждал, что общение столь же социально, сколь и индивидуально. На основе развития различных видов познания и общения, которые постоянно взаимодействуют в процессе воспитания, возникает игра как "синтетическая" форма деятельности ребенка. Все формы игры, по Б. Г. Ананьеву, являются теми или иными интеграциями компонентов познания и общения.
Деятельность понималась Д. Б. Элькониным как воссоздание имеющихся форм, построение новых и преодоление ставших форм, и в первую очередь форм собственного поведения. Лишь в деятельности возможно развитие личности и формирование деятельностного типа личности. Детское развитие понимается как изменение форм общности детей и взрослых. По сути, развивается не индивид – ребенок, а детско-взрослая взаимность в процессе совместной деятельности. Наибольшее влияние на психическое развитие детей оказывает ведущая деятельность. Виды ведущих деятельностей отражены в периодизации развития Д. Б. Эльконина (см. параграф 1.4): непосредственно-эмоциональное общение в младенческом возрасте, предметно-манипулятивная деятельность в раннем детстве, сюжетно-ролевая игра детей дошкольного возраста, учебная деятельность детей младшего школьного возраста, интимно-личностное общение в подростковом возрасте, учебно-профессиональная деятельность старшеклассника. Данная последовательность смены ведущих видов деятельности не означает, что при переходе ребенка на следующий возрастной этап прежние виды деятельности полностью исчезают. Это означает то, что к прежним видам деятельности добавляется новая и одновременно происходит перестройка каждого вида деятельности, меняется их иерархия.
Предмет: психика, преобразованная культурой
Представители: Э. Дюркгейм, Люсьен Леви-Брюль , Пьер Жане , Выготский, Лев Семенович

Впервые вопрос о социальности, как системообразующем факторе психики был поставлен французской социологической школой. Ее основатель Э. Дюркгейм (1858-1917) с помощью термина «социальный факт» или «коллективное представление» иллюстрировал такие понятия, как «брак», «детство», «самоубийство». Социальные факты отличны от своих индивидуальных воплощений (нет «семьи» вообще, но существует бесконечное количество конкретных семей) и носят идеальный характер, который оказывает воздействие на всех членов общества.
Люсьен Леви-Брюль, используя этнографический материал, развил тезис об особом типе «первобытного» мышления, которое отлично от мышления цивилизованного человека.
Пьер Жане еще более углубил принцип социальной детерминации, предположив, что внешние отношения между людьми постепенно превращаются в особенности строения индивидуальной психики. Так, им было показано, что феномен памяти заключается в присвоении внешних действий выполнения поручения и пересказа.
Наиболее полно принцип культурно-исторической психики был раскрыт в работах Л.С.Выготского, разработавшего учение о высших психических функциях. Л.С.Выготский предположил существование двух линий развития психики:
- натуральной,
- культурно опосредствованной.
В соответствии с этими двумя линиями развития выделяются «низшие» и «высшие» психические функции .
Примерами низших, или естественных, психический функций могут служить непроизвольная или непроизвольное ребенка. Ребенок не может ими управлять: он обращает внимание на то, что ярко неожиданно; запоминает то, что случайно запомнилось. Низшие психические функции – это своего рода зачатки, из которых в процессе воспитания вырастают высшие психические функции (в данном примере – произвольное внимание и произвольная память).
Превращение низших психических функций в высшие происходит через овладение особыми орудиями психики – знаками и носит культурных характер. Роль знаковых систем в становлении и функционировании психики человека, безусловно, принципиально – оно определяет качественно новый этап и качественно иную форму существования психики. Представьте себе, что дикарю, не владеющему счетом, надо запоминать стадо коров на лугу. Как ему придется справляться с этой задачей? Ему необходимо создать точный зрительный образ того, что он увидел, и потом попытаться воскресить его перед глазами. Скорее всего, он потерпит неудачу, пропустит что-нибудь. Вам же нужно будет просто сосчитать коров и впоследствии сказать: «Я видел семь коров».
Многие факты свидетельствуют, что осваивание ребенком знаковых систем не происходит само собой. Здесь проявляется роль взрослого. Взрослый, общаясь с ребенком и обучая его, сначала сам «овладевает» его психикой. Например, взрослый показывает ему что-то, по его мнению, интересное, и ребенок по воле взрослого обращает внимание на тот или иной предмет. Потом ребенок начинает сам регулировать свои психические функции с помощью тех средств, которые раньше применял к нему взрослый. Так же, будучи взрослыми людьми, мы, устав, можем сказать себе: «Ну-ка, посмотри сюда!» и действительно «овладеть» своим ускользающим вниманием или активизируем процесс воображения. Перепетии важного для нас разговора мы создаем и анализируем заранее, как бы проигрывая в речевом плане акты своего мышления. Затем происходит так называемое вращивание, или «интериоризация» - превращение внешнего средства во внутреннее. В результате из непосредственных, натуральных, непроизвольных психические функции становятся опосредствованными знаковыми системами, социальными и произвольными.
Культурно-исторический подход в психологии продолжает плодотворно развиваться и сейчас, как в нашей стране, так и за рубежом. Особенно эффективным этот подход оказался при решении проблем педагогики и дефектологии.
Ни для кого не новость, что исследовательские методы, методики, научные споры имеют свои исторические истоки и объяснения. Но искать их нередко стоит не в истории данной науки, будь то лингвистика, психология, философия знания или даже физика или химия, но в общей - как сказали бы прежде - духовной истории. Духовную историю можно уподобить не плоскостной проекции "чистой" истории науки, а трехмерному пространству сцены, в котором и разворачивается многофигурная "драма идей" (Эйнштейн).
Конфликты их носителей не сводимы к столкновениям теорий или точек зрения: это всегда еще и взаимодействия личностей. А личность так или иначе определена временем и местом: существуя в историческом времени и пространстве, она обладает соответствующей ментальностью - разделяет не только конкретные представления, но и доминирующие в ее среде способы думать и чувствовать, понимать мир и оценивать людей. В этом смысле принято говорить, например, о ментальности средневекового рыцарства или о ментальности человека Возрождения. Но конкретные идеи и представления, составляющие содержание ментальности, - это не те идеи, что порождаются индивидуальным сознанием, и не отрефлектированные духовные конструкции.
Это, скорее, жизнь таких идей и конструкций в определенной социальной среде. При том, что для самих носителей идей они остаются неосознанными. Чтобы войти в ментальность широких кругов - тех, кого историки вслед за средневековыми интеллектуалами называют "простецами", - эти идеи должны упроститься. А иногда и профанироваться. В противоположном случае они обречены оставаться интеллектуальным достоянием высокообразованного меньшинства.
Так или иначе, коллективная ментальность включает в себя совокупность определенных идей в неосознанном или неполностью осознанном виде. Ученый может опережать свою эпоху именно в качестве исследователя, но какова бы ни была глубина его личной рефлексии, в стержневых аспектах личности ученый неизбежно разделяет ментальность своего времени. И новые идеи, рождающиеся на исторически изменяющейся почве, в той или иной мере питаются уже сформированной общей ментальностью. Это значит, что культурные инновации не возникают ниоткуда. Они всегда - ответ на духовный вызов эпохи, а эпоха - это совокупность деяний и помыслов многих, а отнюдь не только элиты. Поэтому история идей, как она изучается философией и социологией, не совпадает с "социальной" историей идей - т.е. историей рецепции идей в умах. Полезно задуматься о том, как история развития определенных научных теорий и школ соотносится с общей атмосферой жизни социума в те или иные исторические периоды. Ключевым опосредующим звеном здесь являются как раз господствующие в обществе типы ментальности - признание этого факта и отличает серьезную интеллектуальную историю от различных версий так часто поносимого "вульгарного социологизма". Бывают периоды, когда состояние науки и состояние социума складываются в совершенно особую конфигурацию. Для этой конфигурации характерны явные или относительно скрытые философские и социальные метания; размывание привычных структур социальной и культурной жизни, в том числе и структур самой науки. Важная особенность такой конфигурации еще и в том, что резко контрастные культурные стереотипы сосуществуют внутри сравнительно узкого круга "лидеров", "генераторов идей", людей, которых мы называем "культовыми фигурами", "знаковыми персонажами". Эти контрасты уже в сниженном, вульгаризированном виде транслируются "вниз", делаясь достоянием "простецов". Тогда возникают культурные споры и конфликты, суть которых туманна уже для следующего поколения. Их анализ поучителен для понимания дальнейших путей возникновения и развития научных направлений и столкновения умов.
Удивительный пример такой конфигурации идей и социальных запросов являет собой научная и интеллектуальная жизнь Советской России в 20-30-е годы. Именно на эти годы приходится расцвет (и разгром) "формального метода" в науке о литературе, расцвет (и разгром) попыток создания исторической психологии, расцвет - и опять-таки разгром - русской психоаналитической школы. Жизнеописания ученых этого периода поражают противоречивостью: кажется, что многие люди из относительно близких академических кругов, практически одной культурной среды жили в параллельных мирах. Я не имею в виду социальную изоляцию и нищету одних в сравнении с благополучием других. Более продуктивен анализ не столь броских, но при этом типических случаев, pаскрывающих типы ментальностей той эпохи как важный фактор истории науки. Почему это особенно важно для наук когнитивного цикла?
Быть может, в науках совершенно сложившихся, устоявшихся, и можно без больших потерь пренебречь историей становления основных идей и представлений. Напротив, для наук, находящихся в состоянии смены парадигмы, переживающих серьезные внутринаучные конфликты, как раз крайне важно понять генезис идей, методов и оценок. И тогда многое из того, что нам кажется алогичным или, наоборот, само собой разумеющимся, предстанет в ином свете. В этом ракурсе мы и рассмотрим некоторые идейные и личностные коллизии, связанные с судьбами Л.С. Выготского и А.Р. Лурия, считавшего себя учеником Выготского. Для советской психологии имя Выготского до сих пор остается знаковым, хотя Выготский умер в 1934г. Однако между 1936 и 1956 годами о Выготском мало говорили; его, в отличие от многих, даже не пробовали "разоблачать". Его просто не издавали и как будто не вспоминали. Положение кардинально изменилось в период расцвета структурной лингвистики и семиотики в СССР, т.е. с начала 60-х годов.
Именно тогда Выготский окончательно входит в ряд основных культуротворческих фигур. Заметим, что в ближайшей временной перспективе в этот "знаковый набор" попадают совершенно разные персонажи: Пропп со структурно-функциональным анализом и "Морфологией сказки"; Тынянов и другие "старшие" формалисты с их девизом "Как это сделано?"; Бахтин с его диалогом и карнавализацией; мистик Флоренский - вначале преимущественно с "Иконостасом"; Эйзенштейн, в котором отныне следовало видеть не столько крупнейшего кинорежиссера, сколько оригинального теоретика-гуманитария, и Выготский с его вполне марксистски ориентированной исторической психологией. Глядя на эту "карусель" из сегодняшнего дня, поколение начинающих гуманитариев не может понять, откуда взялось соположение исследователей со столь разными и часто противоположными позициями.
Приходится напоминать, что в начале 60-х это были, прежде всего, "возвращенные имена" и носители иной ментальности. Вдаваться в нюансы и конкретику тогда было как бы "не с руки". Но, действительно, в 60-70-е годы рецепция идейного богатства 20-30-х годов проходила столь поспешно, что многое усваивалось, если обыграть термины известной оппозиции Леви-Стросса, скорее "сырым", нежели "вареным". Когда же вышеупомянутые лица (как, впрочем, и многие другие) окончательно стали "культовыми фигурами", подлинная приобщенность к их теориям понемногу стала заменяться сначала избыточным цитированием их работ, а позднее и авторитарными, а то и чисто ритуальными ссылками. Поэтому и стоит заново осмыслить некоторые подробности жизни и трудов Л.С. Выготского и А.Р. Лурия, тем более, что их биографии скорее мифологизированы, чем поняты.
Культурно-историческая психология Л.С. Выготского зародилась в Московском университете в сотрудничестве с А.Р. Лурия и А.Н. Леонтьевым. Смысловое содержание культурно-исторической психологии Л.С. Выготского составили следующие идеи: методология системного историко-генетического анализа различных психических феноменов в контексте биогенеза, антропогенеза, социогенеза и персоногенеза, поиска взаимопереходов между этими векторами историко-эволюционного развития; идея об изобретаемых в истории культуры знаках (в первую очередь - языка) как средствах («психологических орудиях») овладения поведением человека и социальных групп; гипотеза об интериоризации как конструктивном механизме социализации человека, происходящей в ходе сотрудничества, совместной деятельности ребенка с другими людьми и приводящей к преобразованию мира культуры /мира «значений»/ в мир личности /мир «смыслов»/; концепция системного анализа развития и распада высших психических функций человека как социальных по происхождению, культурно опосредуемых различными знаками по структуре и произвольно регулируемых по способу управления формах поведения; историко-генетическая системная концепция мышления и речи как ключ к пониманию смысловой диалогичной природы сознания; представление о динамических смысловых системах как особом единстве аффекта и интеллекта и единицах анализа личности; концепция «зоны ближайшего развития» высших психических функций ребенка как продукте сотрудничества ребенка со взрослым и сверстниками при решении задач и обоснование идеи об обучении как движущей силе психического развития ребенка. Предметом психологии Выготского было сознание. Однако было бы неправильно на этом основании отторгать Выготского от ПТД, ставшей с 40-х гг. ХХ в., ядром всех научных школ университетской психологии. Анализ психологической системы Выготского позволяет утверждать: он признавал деятельность в качестве формы бытия человека. Деятельность-то целое, в котором поведение и сознание существуют в единстве. «Психики без поведения так же не существует, как и поведения без психики, потому хотя бы, что это одно и то же», - говорил он в своем выступлении на II Всероссийском съезде по психоневрологии в 1924 г. В последующем в работах, в которых подводились некоторые итоги проделанных исследований («Орудие и знак в развитии ребенка», 1930 г.), в рабочих обсуждениях с сотрудниками, известных под названием «Проблема сознания», Л.С. Выготский отмечал: «Вначале было дело (…), в конце стало слово, и это важнейшее». Рассматривая вопрос о связи слова и дела в процессе развития ребенка, он писал: «…слово не стоит в начале развития детского разума… Практический интеллект генетически древнее вербального: действие первоначальнее слова, даже умное действие первоначальнее умного слова.» Замечательны заключительные положения работы «Орудие и знак в развитии ребенка»: «…если в начале развития стоит дело, независимое от слова, то в конце его стоит слово, становящееся делом. Слово, делающее действие человека свободным».
Центральным фактом своей психологии Л.С. Выготский называл факт опосредствования. Раскрывая его содержание, он обращался к аналогии между знаком как орудием опосредствования и образования высших психических функций и техническими орудиями в трудовых операциях человека. При этом рассматриваются два капитальной важности вопроса. Во-первых, в орудийности трудовой и психической деятельности заключается качественное отличие человека от животных. Во-вторых, психологическое орудие сопоставляется с орудиями трудовой деятельности. По собственному замечанию Л.С. Выготского, это сравнение восходит к идеям Ф. Бэкона, слова которого (- «Ни голая рука, ни предоставленный самому себе разум, не имеют большой силы. Дело совершается орудиями и вспоможениями, которые нужны разуму не меньше, чем руке.» - цитируются Выготским неоднократно. В них выражается его основная идея о глубокой связи строения сознания человека со структурой трудовой деятельности. Вводится понятие инструментального акта, опосредствованного, в отличие от естественного процесса, орудием. «В инструментальном акте … между объектом и направленной на него психической операцией вдвигается новый средний член - психологическое орудие, становящееся структурным центром или фокусом, т.е. моментом, функционально определяющим все процессы, образующие инструментальный акт. Всякий акт поведения становится тогда интеллектуальной операцией». Так характеризуются высшие исторически сложившиеся психические функции - высшие формы памяти, внимания, словесного или математического мышления, а также процессы поведения.
Таким образом, психическая деятельность (этот термин Выготский употребляет неоднократно) родственна внешней деятельности человека: она также опосредствована своими (психологическими) орудиями. Исследовались разные формы психической деятельности, в частности, игровая. Анализируя отношение игры к развитию, Л.С. Выготский ввел понятие ведущей деятельности: «По существу, через игровую деятельность и движется ребенок. Только в этом смысле игра может быть названа деятельностью ведущей, т.е. определяющей развитие ребенка». Позже Д.Б. Эльконин, один из учеников Льва Семеновича и соратник других его учеников, использовал его понимание, а также разработанное А.Н. Леонтьевым в контексте деятельностного подхода понятие ведущей деятельности в качестве ключевого в своей концепции периодизации психического развития. Он обосновал положение о том, что на каждом этапе развития имеется своя ведущая деятельность: именно в ней происходит развитие и подготовка следующего этапа.